Статья опубликована в рамках: CVIII Международной научно-практической конференции «Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке» (Россия, г. Новосибирск, 25 декабря 2024 г.)
Наука: Междисциплинарные исследования
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РИТОРИКИ И АРГУМЕНТАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ АВТОРИТАРНОГО И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ВЛАСТВОВАНИЯ
THE PECULIARITIES OF COMMUNICATION IN THE POLITICAL DISCOURSE OF AUTHORITARIAN AND DEMOCRATIC RULE
Vladimir Vyalykh
Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Department of Social Sciences and Youth Policy, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Orenburg State Medical University of the Ministry of Health of Russia,
Russia, Orenburg
АННОТАЦИЯ
Политическое властвование проявляется не только в социальных и экономических практиках, но и в коммуникационных стратегиях. Различным формам властвования соответствуют различные коммуникационные стратегии, определяемые социальными, политическими и культурными основаниями. В рамках данной статьи будет рассмотрены некоторые особенности политической коммуникации, а также проанализированы отдельные аргументы и риторические приёмы.
ABSTRACT
Political power is manifested not only in social and economic practices, but also in communication strategies. Different forms of power correspond to different communication strategies determined by social, political and cultural foundations. This article will examine some of the features of political communication, as well as analyze individual arguments and rhetorical techniques.
Ключевые слова: коммуникация, риторика, политика, власть, аргумент, демократия, авторитаризм
Keywords: communication, rhetoric, politics, power, argument, democracy, authoritarianism
Начнем с определения политической коммуникации. Согласно А.Ю. Суворовой, политическая коммуникация – это особый вид коммуникации, в пространстве которой посредством сообщений и текстов транслируются политические смыслы[1, c.106]. Так же политическую коммуникацию можно определить как форму властвования, регламентирующую содержание и формы существования политического дискурса. Последний традиционно определяется как коммуникационного взаимодействия субъектов власти, демонстрирующая внутренне дифференцированный процесс образования общественных мнений и формирования политической воли общества[6]. Для выделения функций политического дискурса за основу берется перечень функций языка, сформулированный Р. Якобсоном. Первая из них – побудительная – связана с непосредственным воздействием на адресата, стимулированием его активности в нужном властвующему субъекту аспекте. В свою очередь, коммуникативная функция связана с передачей информации, а эмотивная и метаязыковая – с установкой эмоциональной связи и наделением информацией смысла соответственно. К этим функциям можно добавить еще одну, а именно манипулятивно-трансформационную. Посредством этой функции властвующий субъект не просто воздействует на подвластный объект, но и тем самым определяет его отношение к существующей социально-политической реальности, трансформируя тем самым мировоззренческие и нормативно-ценностные ориентации последнего.
Авторитарность порождает целое направление в типологии дискурса. Авторитарный дискурс определяется как целенаправленное коммуникативное действие, цель которого сосредоточена на коммуникативном и интеллектуальном доминировании и реализуется на вербальном, невербальном и паравербальном уровнях. Исходя их того, что любая власть связана с отношениями доминирования, данное определение можно применить и дискурсу демократическому. Для демократического дискурса порой даже больше чем для авторитарного характерен квазидиалог, выражающийся в имитации сближения власти и общества[1, c.107]. Декларируемые в демократическом дискурсе плюрализм и свобода слова не исключают различных практик ограничения проявлений индивида или социальной группы в информационном пространстве. Речь в данном случае может идти как о культуре отмены, направленной на изоляцию субъектов, придерживающихся отличающейся от общепринятой точки зрения, так и о дискурсивной демократии[2,c.22]. Последняя, по словам М.А. Чекуновой, выражается в сохранении у демократического государства функций контроля над политическим дискурсом в условиях современного информационного общества.
В авторитарном, так и в демократическом политическом дискурсе властвующий субъект использует ряд аргументов, которые будут рассмотрены ниже. Аргумент к личности является одним из наиболее часто используемых. Г.И. Рузавин пишет, что этот аргумент применяется тогда, когда «…обращают внимание не на существо дела и установление истины, а на те или иные черты личности, особенности поведения… Такая ошибка называется argumentum ad hominem, или аргумент к личности» [2, с.120]. У этого понятия есть два основных значения: 1) оскорбление личности оппонента, 2) построение аргументации на знании личности оппонента. Подавление оппонента, его дискредитация используется и в авторитарных, и в демократических режимах. При этом упор делается не на конкретные провинности человека, а на его личностные качества: некомпетентность, неспособность занимать ту или иную должность, неправильную политическую принадлежность и т. д. Аргумент к авторитету часто применялся в тоталитарных режимах и реализовывался в рамках стратегии культа личности. Отсылка к авторитету вождя, президента, короля и т.д. автоматически добавляла убедительности любой аргументации. В условиях демократии, где культ личности в классическом его понимании отсутствует, в качестве авторитетов выступают различные эксперты. Их медийная активность и политическая ангажированность призваны формировать необходимый властвующему субъекту вектор общественного мнения. Это позволяет говорить о формировании экспертократии как социального и политического института, в некоторых ситуациях претендующего не только на формирование общественного мнения, но и участие в осуществлении политического властвования. Экспертократия как социальный и политический институт способствует использованию еще одного аргумента, а именно – к невежеству. Статус эксперта в дискурсе наделяет его обладателя дополнительными возможностями для репрезентации его точки зрения. В то же время отсутствие статуса эксперта существенно сужает для субъекта возможности для репрезентации своей точки зрения, а в отдельных случаях и вовсе лишает её.
Один из главных источников угрозы стабильности для авторитарных и тоталитарных режимов – перемены, выражающиеся в реформах. Существует специальный тип аргументации, цель которого – убедить в том, что любые реформы контрпродуктивны и угрожают развитию государства. В книге «Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность» А. Хиршман выделял три подобных аргумента. Первый из них – тезис об извращении – гласит, что любое действие, направленное на улучшение социально-политической ситуации, способно лишь ухудшить ее, но никак не улучшить [5,с.23]. Конфуций и Платон писали об опасности перемен, так как видели в них угрозу самой сути развития государства. Оба мыслителя видели залог нормального развития государства в следовании традициям и порядку. Второй аргумент – к тщетности – гласит, что попытки реформ в обществе и государстве также ни к чему не приведут. Этот аргумент служит своеобразным продолжением первого. На определенном этапе развития тоталитарные и авторитарные режимы нуждаются в реформах, но затем наступает период реакции. Реформы рассматриваются как не только чуждые, но и враждебные для общества и государства. Сохранение статус-кво становится определяющей целью внутренней политики, что рано или поздно приводит к социальному взрыву. Аргумент к опасности утверждает, что перемены могут угрожать существующему порядку [5, с.17]. Власть при таком аргументе прочно идентифицируется с источником порядка и стабильности, в то время как любые попытки реформ – с источником обратного. Этот аргумент часто используется в персоналистских авторитарных режимах для оправдания сохранения у власти определенного политика.
Вместе с выделенной А. Хиршманом риторикой реакции в качестве черты современного политического дискурса следует выделить риторику прогрессивизма, одинаково использующуюся как в демократической, так и авторитарной практиках политической коммуникации. Если риторика реакции достигает цели разобщения, демотивации различных социальных групп и -как следствие – сохранения статуса-кво, то риторика прогресса преследует другие цели. Но, несмотря на некоторую разницу, использование их обеих в политическом дискурсе решает задачу воздействия на аудиторию в необходимом для властвующего субъекта ключе. Первый аргумент риторики прогресса - аргумент витальности – основан на предпосылке о том, что предлагаемые властвующим субъектом перемены / реформы жизненно необходимы для общества. Жизненная необходимость предполагает использование любых средств для их воплощения в жизнь. Аргумент витальности используется как в демократических режимах («новый курс» Рузвельта и его знаменитые слова «крутые времена – крутые меры»), так и в авторитарных и тоталитарных (пятилетние планы Сталина в СССР и знаменитое «слабых бьют»). Следующий аргумент, используемый в рамках риторики прогресса – аргумент темпоральности. Посредством этого аргумента властвующий субъект манипулирует восприятием времени, требуемого для выполнения какой-либо задачи. Время может быть либо ограниченно, либо временной горизонт конечного достижения цели может быть размыт. И наконец аргумент экзистенциальности, выражающий масштаб предстоящих в государстве преобразований, требующий привлечения многочисленных финансовых, технических и человеческих ресурсов.
Таким образом, при безусловных социокультурных и политических различиях демократического и авторитарного властвования используемые в них властвующим субъектом коммуникативные практики обладают рядом схожих моментов. Безусловно, масштаб и степень эффективности их использования напрямую зависит от наличия, либо отсутствия институциональных ограничений в развитии той или иной политической системы.
Список литературы:
- Суворова А.Ю. Политические коммуникации: сущность, структура и современные тенденции развития // Государственная служба. 2016. № 6. С. 105–109.
- Чекунова М.А. «Дискурсивная демократия» и специфика государственно-властного дискурса в условиях развития цифровых коммуникаций // Ценности и смыслы. 2018. № 6 (58). С.22–48.
- Чудинов А.П. Дискурсивные характеристики политической коммуникации. Политическая лингвистика. 2012. С. 53–59.
- Хазагеров Г. Аргументы ad hominem, или «Ты меня уважаешь?» // Социальная реальность. 2006. № 10. С. 119–121
- Хиршман А. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность. М., 2010. 250 с.
- Политико-терминологический словарь, интернет-ресурс: http://www.politike.ru/dictionary/285
дипломов
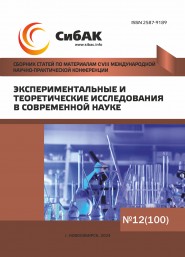

Оставить комментарий