Статья опубликована в рамках: XIV Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история» (Россия, г. Новосибирск, 18 июля 2012 г.)
Наука: Философия
Секция: Онтология и теория познания
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
дипломов
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МЫСЛИ И ПРЕОДОЛЕНИЕ СКЕПТИЦИЗМА
Ткачёв Андрей Николаевич
ассистент ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
E-mail:
Формирование экзистенциального образа мысли происходит под действием проблематики скептицизма, как реакция на полученные скептическим мышлением результаты, и это, прежде всего, результаты критической философии Канта в гносеологии, и результаты радикального этического скептицизма Ницше. Развитие этих направлений скептической мысли разрушало наивно-реалистические представления о данности мира, и требовало ответа на них, для заполнения мировоззренческого вакуума, которое они порождали. С одной стороны, эта скептическая аргументация была серьезно обоснованной, а, с другой стороны, своей разрушительностью не удовлетворяла оптимистических потребностей человека. И эту разрушительность пытались понимать и преодолевать различные мыслители.
В философской и художественно-философской среде возникали различные течения, выражающие скептическое отношение к наивно-реалистическим представлениям о мире, и в этих течениях происходило возвращение к древним, мистическим представлениям о мире, гносеологические иллюзии просвещения развеивались, и мир вновь представал перед человеком полным тайн и непредсказуемости. Отсюда становится понятным возобновление интереса к религии, которая в это время предпринимает попытки заново посмотреть на различные явления религиозной веры. Причем ценность этого взгляда была в том, что это был взгляд, во многом, именно заново, то есть в меньшей степени ограниченный той или иной догматической предвзятостью.
Например, если рассмотреть природу конфессиональной догматической замкнутости, то очень трудно понимать это явление как органичную часть религиозного или религиозно-философского дискурса. Ведь при догматической замкнутости мы встречаемся с той же непонятной реакцией на скептицизм (о которой уже писалось в данном исследовании), где скептическая аргументация игнорируется, причем во многом бессознательно игнорируется, то есть по существу, религиозно-философский дискурс просто блокируется, и выводится аргументация явно не соответствующая той скептической проблематике, которая предлагается, или с которой, так или иначе, встречается конфессиональная догматически замкнутая мысль. Например, уже в первом выступлении на Петербургских религиозно-философских собраниях, Тернавцев начинает свой доклад с тезиса: «1. Возрождение России возможно только на почве истинного Христианства» [1, с. 19] — изначально закрывая этим тезисом возможное определение пространства диалога. То есть диалог начинается с интерпретаций того, что есть истинное христианство, тогда как само христианство для части интеллигенции еще является под вопросом, и главное, в данных основных положениях доклада никак не обозначается гносеологическая проблематика того, относительно чего рассматривать христианство на предмет его истинности. То есть Тернавцев в докладе требует «правды о земле», то есть понимания христианства исходя из естественного богословия (или религиозной философии), а с другой стороны игнорирует проблематику данной правды, то есть игнорирует проблематику естественного богословия.
В западной мысли догматика имела сильный стимул для развития: наличие догматического конфликта между католицизмом и протестантизмом, и также развитого философского конфликта между атеизмом и религией, которые заставляли серьезных религиозных мыслителей выходить на проблематику естественного богословия (например, экзистенциально-естественное богословие Блеза Паскаля, а также Кьеркегора, или естественно-богословские воззрения Канта). В русской же религиозной мысли межмировоззренческий конфликт не был настолько глубоко обострен и осознан, в период Петербургских Религиозно-Философских Собраний глубокое осознание этого конфликта лишь начинает формироваться, причем во многом благодаря знакомству философствующей интеллигенции с западной религиозно-философской мыслью. И то, что Гиппиус и Мережковский обнаружили главным в мышлении православной церкви позитивизм, говорит о том способе осознания, который вообще типичен для догматического богословствования. Ведь догматический стиль мышления — это по своей сути форма позитивизма, так как изначально в своем основании предполагает какой-то набор позитивных положений, воспринимаемых некритично и трактуемых как откровение свыше. То есть догматический стиль мышления можно понимать как форму религиозного позитивизма. Причем речь идет именно о догматическом стиле мышления, а не о догматическом богословии вообще, так как, например, в современном протестантском догматическом богословии (в рамках, например, диалектической теологии) практикуется вовсе не догматический стиль мышления, то есть не предполагается изначально некий набор позитивных положений, то есть там присутствует большая связь с естественным богословием, а потому трактовать любое догматическое богословие исключительно как позитивизм, представляется неправомерным. И потому представляется более правильным говорить о наличии догматического стиля мышления, то есть стиля мышления замкнутого в определенной догматике и не предполагающего в своих рассуждениях проблем естественной теологии.
Тут можно сравнить два противоположных экзистенциально мыслящих типа: Льва Толстого и Льва Шестова. Для Толстого непостижимость мира существует, но выводы из данного у Толстого не предполагают возможности непостижимого. Например, Толстой отрицает в Евангелиях то, что не вписывается в его картину данного (например, чудеса), но он не предполагает и не учитывает возможности того, что непостижимое непредсказуемо и вовсе не обязательно должно соответствовать данным Толстому возможностям познания. Такой подход был свойственен либеральному протестантскому богословию, и был преодолен в нем экзистенциально ориентированной диалектической теологией Карла Барта. (Но это уже было после Толстого). И вот Шестов возмущается у Толстого, прежде всего, именно этим, то есть тем, что Толстой, например, непостижимого Бога, хочет свести к постижимому «богу». Но все-таки Толстой представляется правым на данном этапе осознания вопроса, так как, если вводить непостижимость в естественную теологию, как того хочет Шестов, то неизбежен гносеологический пессимизм, так как рационально немотивированная вера — это произвольно выбранная вера, ведь, немотивированных вер можно предложить сколько угодно, Шестов говорит об «Иерусалиме», но никак не отвечает на вопрос (и даже не ставит его), почему, например, не «Мекка»? А такой вопрос — это значимый вопрос естественной теологии, и такой гносеологический пессимизм никак не мог удовлетворить Толстого, ищущего смысл жизни, а не отсутствие смысла. То есть Толстой все-таки (несмотря на ряд ошибок, неизвестных в его время) идет по пути естественного богословия более прямым путем, нежели Шестов. Во-первых, он, несмотря на непостижимость мира, не отказывается от гносеологического оптимизма на основании экзистенциальной мотивировки поиска смысла жизни, во-вторых, Толстой предлагает все-таки (в отличие от Шестова) какую-то основу для рассмотрения вопросов естественной теологии, а именно, Толстой предлагает для основы данность (в том числе экзистенциальную данность). Собственно, и современная философия пользуется таковой основой, разница лишь в интерпретациях, Толстой не знал, в его время, многих дефиниций в осознании данного, известных в современной философии и богословии. Поэтому, следуя историко-философской данности, некоторая правота Шестова, например, о противопоставлении «непостижимого Бога» и «постижимого бога» нужно оценивать исходя из воззрений его времени, а Шестов, в его время, не привел достаточных мотивировок для естественного богословия, чтобы можно было правомерно ввести понятия «непостижимого Бога» не утрачивая при этом гносеологического оптимизма. Поэтому, если смотреть со стороны гносеологических представлений времени Толстого, то критика Львом Шестовым воззрений Толстого выглядит экзистенциально немотивированной со стороны данного, да и сам Шестов в последующем развитии своей философии, оставляет свое понятие «вера» без естественно-теологического разрешения, склоняясь к гносеологическому пессимизму. Так как из гносеологического пессимизма вера никак не выводима, ведь гносеологический пессимизм не позволяет определить предмета веры, то есть во что, собственно, верить. Иными словами, при гносеологическом пессимизме никак не преодолевается разрыв между «правдой о земле» и «правдой о небе», они существуют не связанно друг с другом, не пересекаясь, а потому в этом случае решения любых религиозных вопросов в принципе не имеют достаточных обоснований (или имеют иллюзии «обоснований»).
То есть при рассмотрении проблемы преодоления скептицизма в религиозной философии в качестве экзистенциального образца, все-таки более значима логика развития взглядов Толстого, высказанная им в «Исповеди», нежели логика развития мысли у Льва Шестова, хотя, казалось бы, и у Толстого, и у Шестова присутствует одна последовательность этапов развития от «непостижимость мира» к «религиозной вере», но эта вера у Шестова экзистенциально не мотивирована в религиозно-философском осознании, так как Шестов принципиально отрицает осознание таковой мотивировки, он относит ее к «тайне»: «Последняя истина рождается в глубочайшей тайне и одиночестве» — пишет Шестов в своем сочинении «SolaFide— Только верою» — «Как для влюбленного безразлично, видят ли все люди в его возлюбленной лучшую женщину, так и для того, кто ищет истины, общее признание теряет всякое значение» [3, с. 284]. Нельзя согласиться с таковым определением «истины», где не подвергается сомнению личные впечатления, здесь у Шестова в принципе не допускается возможности иллюзии в личном постижении истины, и его пример с влюбленностью не выглядит очень удачным обоснованием, так как влюбленность часто может иметь и разочарования. Таким образом, можно сказать, что, хотя и Шестов, и Толстой идут вроде бы одним путем от непостижимости мира к вере, однако вера Шестова, согласно его учению, закрыта критике и не предполагает скептического к ней отношения в принципе, а вера Толстого — открыта критике, Толстой, наоборот даже просит критики своей веры! Толстой пишет в «Исследовании догматического богословия»: «… если вы боитесь, что по затемненности и слабости моего ума, по испорченности моего сердца, я не пойму их, помогите мне (вы знаете эти истины Божии, вы, церковь, учите нас), помогите моему слабому уму; но не забывайте, что бы вы ни говорили, вы будете говорить все-таки разуму»[2, с. 67]. Ничего подобного Лев Шестов даже не предполагает в отношении своей личной веры. По причине открытости критике у Толстого в осознании им своей веры есть большие возможности для развития, чем в закрытом осознании веры у Шестова. Если осознание веры у Толстого корректируемо, и его ошибки, в принципе, могут быть исправлены, то это представляется совершенно невозможным в позиции Шестова. Получается, что Шестов, отрицая возможность познания, при этом утверждает нечто лично познанное.
Таким образом, можно сказать, что при преодолении скептицизма в вопросах веры экзистенциальная направленность такового преодоления очень различается: от гносеологического оптимизма до гносеологического пессимизма.
Список литературы:
- Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901—1903 гг.) /Общ. ред. С.М. Половинкина. — М.: Республика, 2005. — 543 с.
- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 23 — М.: Художественная литература, 1957. — 583 с.
- Шестов Л. Solafide — только верою. Греческая и средневековая философия: Лютер и церковь — Париж: YMCA-PRESS, 1966. — 295 с.
дипломов
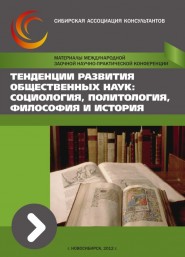

Оставить комментарий