Статья опубликована в рамках: LIX-LX Международной научно-практической конференции «История, политология, социология, философия: теоретические и практические аспекты» (Россия, г. Новосибирск, 05 сентября 2022 г.)
Наука: Философия
Секция: История философии
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ ХХ ВЕКА
THE MAIN TREND IN THE DEVELOPMENT OF THE PROBLEM OF UNDERSTANDING IN THE PHILOSOPHY OF THE TWENTIETH CENTURY
Vasily Kuzin
Candidate of sciences, professor, Novosibirsk State Theater Institute,
Russia, Novosibirsk
АННОТАЦИЯ
В статье анализируются изменения, которые происходили в изучении проблемы понимания в европейской философии ХХ века. Показана общая тенденция в трактовке герменевтических проблем, проявившаяся в творчестве философов, принадлежащих к различным направлениям и школам. Суть этой тенденции в том, что поиски общезначимых методов и результатов понимания сменяются признанием множественности и изменчивости исторических форм интерпретации.
ABSTRACT
The article analyzes the changes that took place in the study of the problem of understanding in the European philosophy of the twentieth century. The general tendency in the interpretation of hermeneutical problems, manifested in the works of philosophers belonging to various trends and schools, is shown. The essence of this trend is that the search for generally valid methods and results of understanding is replaced by recognition of the multiplicity and variability of historical forms of interpretation.
Ключевые слова: понимание; герменевтика; интерпретация; аналитическая философия; феноменология.
Keywords: understanding; hermeneutics; interpretation; analytical philosophy; phenomenology.
Сколько-нибудь подробный анализ всех концепций понимания, созданных в философии ХХ века, требует значительного большего объема. Поэтому мы ограничимся выявлением лишь одной, наиболее важной, на наш взгляд, тенденции, обнаруживающейся в различных теориях понимания. Мы сразу озвучим результаты анализа и сформулируем суть этого движения по изменению принципиальной трактовки «понимания». Возможны несколько вариантов формулировки искомой сути. Итак, в течение ХХ столетия в изучении понимания происходит сдвиг:
– от проблемы поиска лучших средств и методов понимания к проблеме описания условий возможности понимания;
– от стремления к объективному и аисторичному пониманию к признанию «жизненной» и «культурной» укорененности всякого понимания;
– от претензий на абсолютно истинное и единственное понимание к примирению с неискоренимостью «конфликта интерпретаций»;
– от толкования проблем понимания как научных к интерпретации их в качестве проблем экзистенциальных;
– от рассмотрения понимания как одной из форм познания к представлению о нем как о способе бытия.
Но даже для краткого, «тенденциозного» рассмотрения необходимо ограничить круг анализируемых теорий, чтобы это рассмотрение было хоть в какой-то степени предметным. Центральное место среди рассматриваемых ниже теорий по праву принадлежит философской герменевтике, в которой понятие «понимания» принимается в качестве основного. При этом, однако, многие авторы отмечают сопоставимость результатов философской герменевтики с достижениями аналитической философии. Так, Гадамер показывает близость герменевтического сознания взглядам Витгенштейна. А К.-0. Апель «как-то предположил, что такие крупные философы-аналитики, как Куайн и Дэвидсон, вероятно, до сих пор и не догадываются, что их широкоизвестные тезисы «неопределенности перевода», «радикального перевода» и «радикальной интерпретации» имеют свой аналог в работах философов герменевтического направления» [7, с. 28].
Опираясь на труды Витгенштейна и работы классиков герменевтической философии, мы постараемся раскрыть основную, по нашему мнению, направленность изучения проблемы понимания в философии ХХ века. Эту же тенденцию можно без труда обнаружить в истории структурализма, который играл во французской философии роль, аналогичную аналитической философии в англоязычных странах. Эта же направленность прослеживается и в трактовке понимания в рамках психоанализа.
Непосредственными теоретическими источниками для формирования философской герменевтики (в частности, взглядов М. Хайдеггера) послужили историзм Дильтея и феноменология Гуссерля. Из разнообразного творчества Дильтея в интересующем нас аспекте мы остановимся на двух темах: а) обоснование герменевтики как всеобщей методологии гуманитарных наук; б) открытие историчности бытия. «Выдвинуть на первый план принципиальное значение герменевтических проблем и усердно пропагандировать герменевтику как методологическое основание для истории и вообще наук о духе – заслуга Дильтея», – так определяет роль Дильтея Г.Г. Шпет [13, с. 251]. Науки о духе Дильтей противопоставляет наукам о природе: первые имеют в качестве своего объекта непосредственную совокупность жизненно важных связей и значений; вторые же (естественные науки) абстрагируются от чувственного опыта и воспринимают свои объекты как относящиеся к внешнему миру. Важно, что Дильтей подчеркивает лишь методологическое различие наук, различие их установок.
По мере того, как различие двух групп наук все больше осознается как разница «установок», Дильтей все более склонен утверждать, будто различия между природными объектами и духовными объектами не существует, а на первый план выходит задача описания специфики методов гуманитарных наук.
Спецификой методологии наук о духе Дильтей считает ее интерпретационную направленность, в отличие от наук о природе, в которых используются в основном номотетические методы исследования. Описывая методы гуманитарных наук, Дильтей использует термины «интерпретация», «аналитическое постижение», «внутренне-генетическое объяснение», которые так или иначе связаны с категорией «понимание»: «Понимание и истолкование – это метод, используемый науками о духе. Все функции объединяются в понимании. Понимание и истолкование содержат в себе все истины наук о духе» [5, с. 141].
Нам сейчас важны не подробности дильтеевской концепции понимания, а общая направленность его работы. Дильтей выдвигает проект создания такой методологии наук о духе, которая была бы сопоставима с методологией естествознания. Сопоставима не в смысле тождества методов, а в смысле их значимости для науки. Галилей и Ньютон сформировали стандарты научного знания о природе. Философия Нового времени, укоренив знание в познающем субъекте (Декарт) и конкретизировав формы познания через структуру трансцендентального субъекта (Кант), придала формулируемым стандартам научности внеисторичный и абсолютный характер. В такой форме новоевропейская наука о природе учреждалась и институализировалась как сфера объективной истины. Но гуманитарное знание не входило в границы этой области. Поэтому Дильтей спрашивает: «Как можно совместить в гуманитарном знании конкретный жизненный опыт с требованием научной достоверности?» «Каким образом достигается получение универсально значимых высказываний, исходя из внутреннего опыта, столь личностно ограниченного, столь неопределенного, столь однородного и не поддающегося анализу?» [6, с. 43].
Однако, несмотря на ограниченность личностного опыта, ситуация с гуманитарными науками не безнадежна, так как «в сфере наук о человеке, истории и политике множество признаков предвещают революцию, которая столь же значительна, как и революция, осуществленная в естественных науках Галилеем и Ньютоном» [6, с. 39]. Эта революция, одной из движущих сил которой являлось и творчество Дильтея, должна была привести к созданию герменевтической науки, которая обеспечила бы наукам о духе надежные методы получения достоверных результатов, гарантировала бы гуманитарному знанию объективность и общезначимость.
Увы, образ герменевтики как вневременной дисциплинарной матрицы для наук о духе, образ, заимствованный Дильтеем из современной ему эпистемологии, резко противоречил собственной дильтеевской интуиции – интуиции историчности. Дильтей принадлежал к тем мыслителям, которые ясно видят изменчивый, преходящий характер бытия. Какого бытия? Прежде всего, того, в котором укоренено любое понимание, – то есть, бытия человека. Соответственно, первоочередной задачей для Дильтея становится научное описание человеческой жизни.
Первоначально Дильтей пробует решать эту задачу в форме психологии. По его мнению, исходным для психологии должно быть видение целостности душевной взаимосвязи, из которой уже в дальнейшем вычленяются отдельные звенья. Поэтому свою психологию он называет «описательной» или «аналитической» (расчленяющей). Только такая психология способна охватить жизнь как изменяющуюся целостность. А жизнь, по Дильтею, всегда развивается, всегда свободна и всегда исторична.
Однако изучение свободной и историчной душевной жизни никак не могло привести к открытию вневременного методологического каркаса для гуманитарных наук. Дильтей пытается разрешать эту трудность, все чаще выбирая в качестве объекта понимания не «душевную взаимосвязь» как таковую, а «объективированный дух» – формы религии, права, языка, нормы морали и т.д. Но и более объективный предмет понимания не устраняет историческую основу любого понимания – историчного человека.
Таким образом, две интенции Дильтея – обоснование герменевтики как всеобщей методологии гуманитарных наук и открытие историчности бытия – в значительной степени противоречат друг другу. Образ всеобщей методологии диктует необходимость поиска неизменных, достоверных методов понимания, гарантирующих хотя бы в исторической перспективе достижение истинного и полного понимания. Интуиция же историзма неизбежно ведет к признанию множества возможных пониманий, в равной степени обоснованных той или иной изменяющейся жизненной взаимосвязью.
Дильтей был одним из тех мыслителей, в творчестве которых совершался парадигмальный поворот в западной философии. Будучи носителем новоевропейской научной парадигмы знания с предикатами объективности и общезначимости, Дильтей выходит за ее границы в своей концепции историчности понимания. Тем самым он оказывается в центре проблемы, которая будет одной из самых важных во всей философии ХХ века.
Историзм Дильтея своеобразно вписывался в широкое интеллектуальное движение, объединявшее совершенно разных философов (Маркс, Ницше, Бергсон, др.). Это движение сознательно или неосознанно было направлено против того образа философии, согласно которому она представляла собой дисциплину, дающую аподиктические, априорные истины, дисциплину, осуществлявшую метакритику всех частных дисциплин и открывающую концептуальную матрицу всякого познания.
Однако на рубеже XIX – XX веков это движение встретило сопротивление со стороны философов, которые желали отстоять автономию и абсолютность философского знания и которые обратились для этого к математической логике. «Парадигмальными фигурами» в этой попытке возродить математический дух были Гуссерль, Витгенштейн, Рассел.
Забегая вперед, признаем, что попытка не оказалась успешной (что, конечно, не означает, что она была бессмысленной). Как пишет Рорти, «поиск серьезности, чистоты и строгости продолжался целых сорок лет. Но в конце поиска еретические последователи Гуссерля (Сартр и Хайдеггер) и еретические последователи Рассела (Селларс и Куайн) подняли те же самые вопросы о возможности аподиктической истины, которые Гегель поднимал в отношении Канта. Феноменология постепенно трансформировалась в то, что Гуссерль в отчаянии называл «просто антропологией», а «аналитическая эпистемология» (то есть «философия науки») становилась все более «историцистской» и все менее «логической» [9, с. 123-124].
Впрочем, если мы взглянем на творчество Гуссерля в исторической перспективе, то обнаружим, что «еретические» идеи активно рождаются в его собственной философии. Исходной интенцией Гуссерля была идея создания «философии как строгой науки». Идея, которая, по его мнению, много раз провозглашалась философами, но ни разу не была реализована: в продолжение всей своей истории философия и науки так и не смогли освободиться от разъедающего их релятивизма и скептицизма, общей базой которых является субъективизм. Гуссерль не приемлет не только индивидуальный субъективизм, характерный для античных софистов и скептиков, возродившийся в психологизме Локка, Юма и продолжающийся в позитивизме. Столь же критически он настроен против трансцендентального субъективизма, где истина и ее мера ставятся в зависимость не от отдельного индивида, но от человека как родового существа. Общечеловеческая субъективность все равно остается субъективностью.
Поскольку субъективизм оказывается не преодоленным, постольку складывающиеся основные формы научного мышления – натурализм и историзм – страдают грехами релятивизма и скептицизма. В историзме релятивизм провозглашается открыто, ибо здесь утверждается, что каждая истина значима лишь для своего времени, каждая теория является результатом стечения исторических обстоятельств. Но и натурализм объявляется Гуссерлем разновидностью субъективистской установки, при которой природа (математически истолкованная в естествознании XVII – XIX веков) считается универсальной, ни к чему не сводимой реальностью. По Гуссерлю же, только дух автономен и доступен истинно рациональному, истинно научному изучению. Натурализм принципиально ограничен истинами эмпирическими, а значит – условными, относительными.
В противоположность релятивизму и скептицизму Гуссерль утверждает: «Что истинно, то абсолютно истинно «само по себе»; истина тождественно едина, воспринимают ли ее в суждениях люди или чудовища, ангелы или боги» [4, с. 117]. То, что истинно, усматривается с очевидностью и не подвержено сомнению. Сама очевидность есть «переживание совпадения мыслимого с присутствующим», переживание совпадения «между пережитым смыслом высказывания и пережитым соотношением вещей...» [4. с. 118].
Переживание соотношения вещей есть «феномен», а наука о феноменах есть феноменология. Правда, не всякий феномен будет предметом феноменологии. Среди феноменов Гуссерль различает «эмпирические» и «чистые», или собственно «феноменологические» феномены. Эмпирическое явление не показывает себя само, оно дано во взаимодействиях с другими явлениями и раскрывается через них. А знание о таком явлении будет неотчетливым, замутненным различными привнесениями – ситуативными, социальными, культурными. Пробиться к чистому феномену, «к самим вещам» можно путем воздержания от суждений по поводу существования или несуществования внешнего мира («эпохе»), а также посредством эйдетической и феноменологической редукций, выносящих «за скобки» все, что не является самоданным.
Что же остается в результате осуществленных редукций? В результате выявляются, обнажаются структуры «чисто рецептивного» сознания, сознания как такового, и эти структуры, по сути, представляют собой еще одну возможную структуру трансцендентального субъекта. Таким образом, в описании интенциональности, интерсубъективности как структур сознания Гуссерль склоняется к трансцендентализму, бывшему прежде объектом его критики. Но наибольшее изменение его точки зрения заметно в трактовке временности сознания. Временность начинает рассматриваться Гуссерлем как универсальный горизонт жизни трансцендентального Я. А когда время становится последней, несводимой реальностью сознания, то все труднее удается обосновывать абсолютные и вечные истины. Анализ временности сознания выводит Гуссерля на дорогу историзма, и отсюда просматривается прямой путь к хайдеггеровскому постулату «бытие есть время». Крен в сторону историзма еще сильнее проявился в позднем творчестве Гуссерля, в особенности в опубликованной уже после его смерти работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология». В этом сочинении Гуссерль усматривает источник современного европейского кризиса в новом, начинающемся с Галилея, естествознании. Галилей осуществил математизацию природы и показал, что наука сама конструирует свой предмет, а не просто обобщает опыт. Но такое конструирование, оторванное от феноменологического созерцания, по мнению Гуссерля, привело естествознание к утрате смысла того, что оно исследует. Новое естествознание, устраняя все субъективное, окончательно отрывается от человека и от его жизненных смыслов. Соответственно, преодоление кризиса, порожденного техницизмом и натуралистическим объективизмом, достигается, по Гуссерлю, через восстановление связи между наукой и самим познающим человеком, его жизненным миром.
«Жизненный мир» – одно из ключевых понятий у позднего Гуссерля. Что представляет собой этот мир? «Во-первых, жизненный мир всегда отнесен к субъекту, это его собственный окружающий повседневный мир. Во-вторых, именно поэтому жизненный мир имеет телеологическую структуру, поскольку все его элементы соотнесены с целеполагающей деятельностью человека... Наконец, если мир, как его описывает математическая физика, неисторичен, то жизненный мир, напротив, представляет собой историю. Если в естественных науках мы всегда прибегаем к объяснению, то жизненный мир открыт нам непосредственно, мы его понимаем...» [4, с. 130-13l]. Жизненный мир, данный человеку в дорефлексивном понимании, является основой, «горизонтом» любого, в том числе естественнонаучного, знания. Говоря о практически-жизненном понимании, как о бытийном фундаменте всякого познания, Гуссерль фактически утверждает идеи, которыми он прежде был так недоволен, обнаружив их в книге своего ученика («Бытие и время» М. Хайдеггера). Правда, в трактовке понятия «жизненный мир» нет окончательной ясности, что и обнаружилось в спорах последователей Гуссерля по этому поводу. Главный вопрос заключается в следующем: надо ли понимать жизненный мир как неизменную данность, как некий эмпирический коррелят трансцендентальной субъективности, или же следует настаивать на его исторической изменчивости? Сам Гуссерль не дает однозначного толкования, но во многих фрагментах он определяет жизненный мир именно как мир культуры, то есть трактует его конкретно исторически.
Неопределенность позиции Гуссерля в этом вопросе не случайна, а выражает движение его мысли в процессе длительной творческой эволюции. Он начинал с проекта построения философии как строгой науки, свободной от эмпирических наслоений и субъективных привнесений, которая открывает априорные истины и видит свой идеал в логике и математике. А в своем последнем произведении философ настаивает на существовании жизненного, бытийного, исторически изменчивого фундамента для самого строгого знания. Феноменология, первоначально задуманная в качестве своеобразного наукоучения, превращается в философию истории.
Можно предположить, что изначальный трансцендентный порыв Гуссерля к абсолютному, строгому и достоверному знанию проистекает из традиционных метафизических интенций, из традиционной философской веры в разум, в его автономность и беспредпосылочность. В то время как к историческому и культурному анализу Гуссерля побуждали реальные проблемы реального жизненного мира, чью реальность он так до конца и не принял. И этот путь – путь, по которому проходит Гуссерль, – выражает одну из общих тенденций всей философии ХХ века.
Наиболее мощное, интересное, оригинальное развитие идеи Гуссерля получили в творчестве М. Хайдеггера. В философских словарях и учебниках работы Хайдеггера классифицируются по разным рубрикам: экзистенциальная философия, философская антропология и т.д. Но сквозной линией, объединяющей все его творчество, обоснованно считается линия герменевтическая. Хайдеггера часто и по праву называют «основателем» философской герменевтики: с одной стороны, проблемы понимания занимают центральное место в его сочинениях; с другой, – в результате влияния наследия немецкого мыслителя эти проблемы утвердились в качестве важнейших тем западной философии ХХ века.
Суть хайдеггеровской трактовки понимания – это придание ему онтологического статуса. Не случайно свою герменевтику он трактует как «фундаментальную онтологию». Главный вопрос всей мысли Хайдеггера – «Что есть бытие?» – ортодоксально онтологичен, и герменевтическая концепция призвана дать на него ответ, точнее, расчистить подступы к ответу.
Итак, что такое бытие? – «Оно есть оно само. Испытать и высказать это должно научиться будущее мышление. «Бытие» – это не Бог и не основа мира. Бытие шире, чем все сущее, и все равно оно ближе человеку, чем любое сущее, будь то скала, зверь, художественное произведение, машина, будь то ангел или Бог. Бытие – это ближайшее. Однако ближайшее остается для человека самым далеким. Человек всегда заранее уже держится прежде всего за сущее и только за него» [11, с. 202]. Поскольку человек держится за сущее, постольку закономерен вопрос: по какому сущему должен быть прочитан смысл бытия, какое сущее должно быть отправным пунктом для открывания бытия? Таким сущим, по Хайдеггеру, может быть только сам человек, ибо только ему в его собственном бытии открыто бытие.
Открытие бытия не следует мыслить, как узнавание того, что существует самостоятельно и независимо такого открытия. Напротив, именно в акте открытия бытие есть так, как оно есть. Бытие есть по-разному, бытие может открываться и открывается различно. Бытие есть как бытие-возможность. Dasein (здесьбытие) реализует одни возможности и упускает другие. Здесьбытие использует возможности, лишается их, совершает ложные выборы. Поэтому бытие открывается здесьбытию не в зеркальном отражении, а в акте интерпретирующего истолкования. Открытость бытия через возможности Хайдеггер и называет пониманием. В различных способах понимания здесьбытия проявляется его историчность. По мнению Хайдеггера, Дильтей пробился к такой реальности, которая в собственном смысле есть в смысле бытия историческим, – к человеческому существованию. Но при этом, полагает Хайдеггер, Дильтей не ставит вопрос о смысле самой историчности, о смысле бытия нашего здесьбытия. Такие вопросы стали возможны, считает Хайдеггер, лишь на базе феноменологии, и его собственный ответ гласит: суть бытия историческим, сущность здесьбытия есть временность. «Существование-здесь есть не что иное как бытие временем. Время – это не что-то такое, что происходит вовне меня в мире, но то, что я есмь сам... Человеческая жизнь не проходит во времени, но она есть само время» [12, с. 134].
Если временность составляет суть здесьбытия, а понимание есть экзистенциальное бытие этой временности, то отсюда следует, что понимание никогда не может характеризоваться предикатами как: окончательное, завершенное, абсолютное, единственное, т.д. Любое понимание – это лишь одна из возможностей, лишь один из человеческих проектов. А утверждения о его объективной истинности свидетельствуют только о стремлении гипостазировать настоящее в качестве вечного. Хайдеггер с сомнением относится ко всему вечному и самотождественному, будь то субстанция или субъект. Претензии какой-либо одной культуры (например, западной) или составной части культуры (например, современной науки) на абсолютность и общезначимость квалифицируются им как субъективизм.
Итак, в исследовании Хайдеггером проблемы понимания мы обратили внимание на две его идеи. Во-первых, Хайдеггер мыслит понимание не как форму мышления и познания, а как способ бытия. Тем самым существенно ограничивается способность мышления (разума, рассудка) к незаинтересованному, чистому созерцанию и истолкованию, а пониманию придается онтологический статус. Понимание онтологично, ибо укоренено в бытии человека. И обратно: онтология Хайдеггера будет герменевтической, так как ее методом является понимание. Во-вторых, анализ разных способов бытия здесьбытия приводит к утверждению принципиальной множественности, незавершенности, изменчивости понимания. Таким образом, среди философов ХХ столетия Хайдеггер принадлежит к тем мыслителям, которые ответственны за разрушение наших надежд на обладание объективной и абсолютной истиной.
Г.-Г. Гадамер, с именем которого часто связывают дальнейшее развитие философской герменевтики в Германии, опирается на фундаментальные положения концепции Хайдеггера. Мы кратко рассмотрим лишь две взаимосвязанные идеи его теории понимания: проблему исторического понимания и проблему герменевтического круга. Обе они являются продолжением мыслей Хайдеггера.
Свой взгляд на историческое понимание (по-другому – «действенно-историческое сознание», или просто «действенную историю») Гадамер противопоставляет той философской позиции, которая сформировалась в эпоху Просвещения и сохранилась, по его мнению, через философию Канта, романтиков и историческую школу, до сегодняшнего дня. Суть этой позиции заключается в стремлении отыскать вневременные основания, вечные принципы для понимания бытия, истории, человека. Подобные интерпретации творчества, скажем, Декарта или Канта широко распространены. Но Гадамер подобным же образом истолковывает интенции романтиков, Дильтея, историков Ранке, Дройзена и др. Дело в том, что романтики активно утверждали образ человека, который формируется различными влияниями, не всегда осознаваемыми самим человеком. Отсюда вытекала задача историка – выявить и показать эти влияния. По существу, той же позиции придерживался Дильтей и историческая школа. Следствием такой позиции стал принцип Дильтея «Понимать лучше автора!». И Гадамер в значительной степени прав, усматривая в задаче «осознавания бессознательного» модифицированное стремление просветителей к полной ясности и завершенности понимания.
Гадамер не согласен с тезисом о том, что осознание скрытых влияний, осознание традиции освобождает от этой традиции и ее детерминирующего воздействия. Но наиболее активно он возражает против представления, согласно которому историк, анализирующий традицию, ту или иную эпоху, т.д., сам может выступать как независимый от традиции. Не забывает о собственной историчности только тот, кто, подобно Гадамеру, усвоил решающий тезис Хайдеггера «само бытие есть время». «Когда Хайдеггер вывел из абсолютной временности бытия истину и историю, то это уже не было тождественно тому, что сделал Гуссерль. Ибо эта временность не была уже временностью «сознания» или трансцендентального изначального Я. Хайдеггер хотел преодолеть онтологическую беспочвенность трансцендентальной субъективности, ... вновь ставя вопрос о бытии. Что такое бытие, следует определить, исходя из горизонта времени» [3, с. 288].
Исследователь не имеет никакой абсолютной, вневременной, объективной или свободной точки зрения. Исследование (в том числе и историческое) изначально движется в круге первичного понимания, в круге бытия здесьбытия. Герменевтический круг, который прежде рассматривался лишь в аспекте формальной соотнесенности целого и частей, получает у Хайдеггера онтологическую, содержательную трактовку. Главное заключалось в обосновании онтологически позитивного смысла, присущего герменевтическому кругу. Гадамер, следуя в хайдеггеровском русле, конкретизирует идею круга в своей теории «предрассудка» как предварительного понимания.
«Предрассудок», по Гадамеру, не означает бессмыслицы или устаревшего, беспочвенного мнения о чем-либо. Отрицательный оттенок значения закрепился за этим понятием лить благодаря Просвещению. По сути, предрассудок означает предварительное суждение, которое выносится до окончательной проверки. И такое предварительное суждение далеко не всегда оказывается ложным. Существенно то, что наличие предрассудков (хайдеггеровских «пред-имений», «пред-усмотрений», «пред-восхищений») является необходимым условием понимания вообще. Например, понимание текста становится возможным только благодаря тем или иным смысловым ожиданиям, благодаря про-ицированию, набрасыванию смысла. Гадамер, конечно, не отрицает существования ложных предрассудков, и герменевтическое сознание должно стремиться осознавать свои предрассудки или, как говорит Гадамер, «приводить их во взведенное состояние». Но «взвешенный» предрассудок или предрассудок, поставленный под вопрос, вовсе не отставляется в сторону, чтобы на освободившемся месте возникло «чистое понимание» текста, произведения, традиции. Напротив, понимание возможно только как соединение «своего и иного».
Задачу дифференциации истинных и ложных предрассудков в конечном счете призвано решать время, временная дистанция, в которой Гадамер видит позитивную, продуктивную возможность понимания. Если время объявляется условием возможности понимания, то характеристиками такого понимания неизбежно становятся «историчность», «множественность», «изменчивость». Когда Гадамер все же говорит об «истинном понимании», то, как сам он объясняет, речь просто идет о понимании, направляемом «самой сутью дела», а не «случайными наитиями и обыденными понятиями». Истинное понимание уже никак не претендует на «окончательную достоверность», на «беспредпосылочное первородство» и «внеисторическую общезначимость».
Одним из наиболее ярких и влиятельных философов ХХ века, развивающих идеи Хайдеггера, является Жак Деррида. Конечно, любого крупного мыслителя интерпретатор всегда может «вписывать» в различные интеллектуальные традиции, намечать разные концептуальные линии для него. В частности, творчество Деррида (у специалистов по русскому языку нет единого мнения, надо ли склонять фамилию «Деррида») часто и легко размещается на путях французского структурализма – постструктурализма. Но мы здесь в соответствии с собственными задачами выбираем короткий путь: линию «Хайдеггер – Деррида».
Довольно четко оформившаяся интерпретаторская позиция в отношении Деррида настаивает на различении двух периодов в его творчестве. Ранний, более профессиональный период, и период поздний, когда его письмо стало более эксцентричным, личным и оригинальным. В работах первого периода Деррида следует по пути Хайдеггера, ставя себе целью отыскания скрытых оснований всей западной метафизики. Нахождение оснований в значительной степени мыслится как обретение исконных слов – более исконных, чем традиционные категории метафизики. Эти слова призваны вывести исследователя за пределы метафизики, ибо они должны иметь силу независимо от людей, которые эти слова произносят или пишут. «Различение», «дополнительность», «фармакон», «опространствливание», «гимен» – примеры таких исконных слов у Деррида. Изначальные слова не лежат на поверхности, и, чтобы пробиться к ним, необходимо деконструировать текст (философский или художественный), осуществить одновременно его деструкцию и реконструкцию.
Предпосылкой и результатом метода деконструкции будет отрицание не только единственного смысла текста, независимого от времени и человека – как это было уже у Хайдеггера, – но также и отрицание единого, целостного смысла и, соответственно, целостного понимания. Предполагаемое смысловое единство текста – не более чем иллюзия, полагает Деррида, и в этом отношении его установка прямо противоположна «презумпции совершенства» текста, которой предлагал придерживаться Гадамер. Эта иллюзия есть проявление принципа логоцентризма, характерного для западного мышления в целом и заложенного вместе с принципами «фоно-евро-фалло-центризма» в основаниях западной метафизики.
В соответствии с принципом логоцентризма предполагается, что смысл текста (означаемое) вполне автономно существует в его умопостигаемости. А затем он материализуется, отчуждается, опускается в чувственное – воплощается в форме слова, страницы, книги (означающее). Деррида же, настаивающий на исконности, первичности письма и стремящийся преодолеть его подчиненное по отношению к устной речи положение, утверждает одномоментность означаемого и означающего. Смысл рождается как переход, как движение между означающими. И поскольку деконструкция обнаруживает необоснованность претензий на единство смысла, на иерархическую выстроенность, последовательность смыслонесущих элементов, постольку выявляются новые возможности смыслопорождающих переходов между означающими, не совпадающие с последовательностью, запечатленной, например, в книге.
Отвергая одну-единственную возможную траекторию смысловых переходов и настаивая на равноценности пересекающихся внутренних ходов, Деррида тем самым выступает против линейности письма – категории, по его мнению, более важной, чем «пиктография», «идеография», «буквенное письмо», т.д. Линейное письмо представляется нам совершенно естественным и как будто бы просто воспроизводит линейность речи. Но в действительности, как полагает Деррида, линейное письмо представляет собой конкретно-исторический феномен, и его возможности ограничены. Ограниченность линейного письма, обнаруживаемая посредством деконструкции, заключается в том, что, как уже говорилось, оно «стремится подчинить мыслительную и текстовую реальность линейной схеме, а она, эта реальность, не втискивается в нее» [10, с. 40].
Реальная мысль, реальное понимание всегда реализуют возможности перехода от любого смыслонесущего элемента не только непосредственно за ним следующему фрагменту, но к бесчисленному множеству других элементов. Причем, эти элементы даже не обязательно принадлежат вот к этому замкнутому тексту. Замкнутости не существует. Понимание принципиально открыто – оно совершается в «межтекстовом пространстве». Каждый текст наполнен «следами» других текстов, других смыслов и «следами их следов». В их бесконечных отсылках друг к другу и происходит непрекращающееся рождение смысла.
В «технически-обнаженном» виде эта стратегия наглядно представлена в современной практике создания и чтения компьютерных гипертекстов. Машина позволяет располагать текстовые фрагменты, связанные разнообразными отношениями, не в линейном, а в многомерном пространстве, обеспечивая в дальнейшем практически мгновенный переход к любому из них. Читатель (пользователь) теперь самостоятельно определяет «траекторию» чтения, каждый раз выбирая одно из возможных продолжений.
Деррида в своих произведениях также стремится вырваться за рамки линейного текста: он компонует текст из отрывков, внешне не связанных между собой; помещает на одной странице параллельные тексты, превращая лист в многомерное пространство. Однако, как бы успешны или неуспешны ни были конкретные опыты нелинейного письма, для Деррида несомненно, что оно гораздо ближе стоит к реальной практике мысли, нежели письмо линейное. Каждый мыслящий и пишущий знает, что мысль не рождается в завершенной форме от начала до конца, а движется в совокупности своих и чужих текстов как в непрерывной, хотя и не гомогенной, среде. Это движение мысли, это понимание принципиально не может быть завершено, так как текстовое пространство ничем не ограничено, и «нет ничего вне текста».
Понимание текста, у которого «больше нет предела», по определению не может иметь конца. Путь понимания текста, в который можно вступить через «множество входов», по определению не может быть всегда одним и тем же. Понимание текста, в котором зияют «лакуны, провалы» смысла, не может быть «логичным и методически обоснованным». И никакое понимание текста, в котором «маргинальные смыслы» создают очаги напряжений и притяжений, не может претендовать на целостность, единственную правильность и достоверность.
Здесь мы остановим наше краткое рассмотрение тенденций проблемы понимания в герменевтической традиции и вернемся назад (хронологически), чтобы кратко зафиксировать сходные интенции в толковании понимания, характерные для интеллектуального течения, называемого «аналитической философией».
Как уже отмечалось, ранний Гуссерль видел главную опасность для науки и философии в скептицизме и релятивизме, источниками которых он объявил натурализм и историзм. И это – не случайные взгляды отдельного мыслителя. Во всех случаях, когда философия строится как проект обнаружения абсолютного и априорного знания, она оказывается внутренне анти-исторична и анти-натуралистична.
Помимо гуссерлевского варианта феноменологии движение против натурализма и историзма в западной философии рубежа XIX – XX веков приняло и другое направление – направление, которое впоследствии было названо «лингвистическим поворотом в философии». Лингвистический поворот означает, что «язык» становится основной темой философских размышлений, что философия языка объявляется «философией по преимуществу». Таким путем «философы старались оградить некое пространство априорного знания, куда не могли бы вторгнуться ни история, ни естествознание» [8, с. 121].
Лингвистический поворот в первую очередь связан с именами Фреге, Рассела, Витгенштейна. «Логико-философский трактат» последнего «стал моделью, по которой была сформирована дисциплинарная матрица аналитической философии» [8, с. 123]. Опять-таки признаем, что надеждам лингвистической философии не суждено было сбыться, и в своих поздних произведениях сам Витгенштейн приходит к выводу о невозможности чистого исследования языка и к признанию необходимости натурализовать семантику. Путь Витгенштейна интересен еще и потому, что показывает, как при сохранении одного объекта исследования (языка) и сохранении задач философии (прояснение мысли) кардинально меняется принципиальная философская позиция.
Определение языка в качестве главного объекта философского исследования (в противоположность «мышлению» как традиционному объекту прежней гносеологии) происходит уже в Предисловии к «Логико-философскому трактату»: «Итак, замысел книги – провести границу мышления, или, скорее, не мышления, а выражения мысли... Такая граница... может быть проведена только в языке, а то, что лежит за ней, оказывается просто бессмыслицей» [2, с. 2].
Здесь же сразу дается и трактовка языка: язык есть ограниченное целое, язык есть жесткая, конечная структура. Характеризуя как бессмыслицу то, что лежит за пределами языка, Витгенштейн настаивает: «...То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, о том же, что сказать невозможно, следует молчать» [2, с. 2]. Язык представляет собой условие возможности описания, аналогично тому, как кантовская трансцендентальная установка являлась условием возможности познания. Осмысленным является только то, что выражено в языке, также, как лишь в соединении с кантовским понятиями чувственные интуиции становятся «наличными». А поскольку предполагается, что сущность описания едина, постольку язык становится прямым наследником трансцендентальной субъективности.
Одним из трудностей для трансцендентальной философии всегда был каверзный вопрос: если интуиции могут стать наличными лишь благодаря опосредованию через понятия, то каким образом становятся наличными сами понятия? Проблема самореференции – эти камень преткновения, с которым сталкиваются все теоретики, претендующие на открытие «последних оснований» или «абсолютных условий возможности».
С царством логических объектов Витгенштейн «справляется» посредством доказательства того, что предложения логики и математики по сути – тавтологии, и что они ничего не повествуют о мире. В этом отношении они «бес-смысленны». Что же касается предложений, говорящих что-либо о мире, то они получают осмысленность не от логики, а от элементарных предложений, входящих в их состав. А эти последние имеют смысл только в том случае, если составлены из имен, имеющих значение.
В онтологии «Трактата» именам соответствуют объекты, а элементарным предложениям – со-бытия, то есть, связь объектов. Объекты, по Витгенштейну, «образуют субстанцию мира», то есть «то, что сохраняет свое существование независимо от того, что происходит». Лишь существование субстанции обеспечивает миру устойчивую форму и, как следствие, делает возможным познание и осмысленное выражение.
Особенностью витгенштейновских объектов является то, что они не могут быть высказаны. Образуя последнюю основу мира, они обеспечивают осмысленность высказываний, но сами не могут быть высказаны. «Имя обозначает объект. Объект – его значение... Объекты можно только именовать. Знаки их представляют. Говорить можно лишь о них, высказывать же их нельзя. Предложение способно говорить не о том, что есть предмет, а лишь о том, как он есть» [2, с. 12]. Имена, которые употребляются в предложениях, представляют собой простые знаки. Лишь соответствуя чему-либо неизменному (субстанции, объекту), знаки могут иметь точные значения. При таких посылках, конечно, легко поставить задачу проверки и оценки осмысленности всех предложений. Для этого требуется лишь проанализировать предложения. Ведь сложные предложения находятся во внутреннем отношении к составляющим их простым предложениям, которые в свою очередь образованы из простых знаков. Поскольку предполагается, что существует субстанция мира, постольку «имеется один и только один полный анализ предложения».
В этих условиях вполне понятной становится и задача философии: «Цель философии – логическое прояснение мыслей. Философия не учение, а деятельность. Философская работа по существу состоит из разъяснений. Результат философии не «философские предложения», а достигнутая ясность предложений» [2, с. 24]. Тем самым философия очерчивает границу мыслимого и немыслимого – эта граница очерчивается изнутри через мыслимое.
Итак, по Витгенштейну, должна быть субстанция мира, так как без нее невозможно существование картины мира и языка. Если бы анализ не заканчивался на «объектах», то наличие у предложения смысла зависело бы только от истинности другого предложения. Что было бы в этом ужасного? – Это опрокидывало бы тезис Витгенштейна о том, что «условия осмысленности невыразимы». Но почему они должны быть невыразимы? Потому что, если они окажутся выразимыми, нам придется отказаться от представления о «границах языка», о языке как жесткой, конечной структуре.
Однако именно это и пришлось сделать самому Витгенштейну. Рорти констатирует: «Поздний Витгенштейн отказался от мыслей о «границах языка», о «языке» как ограниченном целом... Он примирился с мыслью, что то, имеет ли предложение смысл, зависит все-таки от того, истинно ли другое предложение – от социальных практик людей, которые употребляют знаки и звуки, составляющие это предложение. Тем самым он признал, что ничего невыразимого нет и что философия, как и язык, – это просто система социальных практик, допускавшая бесконечное расширение...» [8, с. 126].
Чтобы убедиться в справедливости вышеприведенного резюме Рорти, достаточно сравнить мысли Витгенштейна по тем проблемам, которые занимали его в ранний и в поздний периоды творчества. Из таких сквозных тем мы остановимся на трех: трактовка языка; задачи философии; значение и понимание. В общем плане можно сказать, что при решении всех этих проблем Витгенштейн отказывается от однозначности, абсолютности и априорности в пользу множественности, конкретности и эмпиричности.
Если в «Трактате» язык понимается как не подверженное натурализации и историзму логическое «зеркало мира», то в «Философских исследованиях» он окончательно объявляется формой и результатом исторической человеческой практики. Образу языка как жесткой цельной структуры противопоставляется теперь язык в качестве совокупности «языковых игр». «Языковая игра» – это определенная практика, это взаимодействие людей, протекающее, как и все игры, по некоторым правилам. Причем, это практика, которая в процессе реализации позволяет усвоить ее собственные правила. Важно, что языковая игра не сводится только к «говорению», к обмену репликами, а строится на базе действия.
Существует множество человеческих практик: они возникают, трансформируются, исчезают. Вместе с ними рождаются, изменяются и умирают соответствующие языковые игры. Тот язык, который является идеалом для логиков (в том числе, как отмечает Витгенштейн, – и для автора «Логико-философского трактата») представляет собой лишь одну из возможных игр, где главной задачей языка становится описание. В случае претензий на исключительность и единственность такой язык превращается в оторванную от жизни фикцию.
Если мыслить язык как составляющую той или иной практики, как средство обеспечения этой практики, становится понятной ирония позднего Витгенштейна над вопросами такого рода: «Что такое язык?» «Что такое предложение?» и т.п. В таких вопросах изначально предполагается, что сущность языка или предложения есть нечто раз навсегда данное, независимое от человеческой практики.
Далее, если нет единой, априорной и скрытой «сущности языка», постольку нет и дисциплины, призванной эту сущность открывать и описывать. На эту роль уже не могут претендовать ни логика, ни философия. Уже в «Логико-философском трактате» философия объявлялась не учением, а деятельностью, результатом которой была быть достигнутая ясность предложений. Ясность достигалась либо путем установления точного смысла предложения, либо обнаружением его бессмысленности. А так как стандарты осмысленности предполагались однозначно заданными, то существовало представление о «безупречно правильном» методе философии: «...Ничего не говорить кроме того, что может быть сказано, то есть кроме высказываний науки... А всякий раз, когда кто-то захотел бы высказать нечто метафизическое, доказывать ему, что он не наделил значением определенные знаки своих предложений» [2, с. 72].
Поздний Витгенштейн мог бы повторить, что задача философии – служить прояснению мысли. Только искомое прояснение уже не мыслится как одна и та же процедура для всех возможных случаев. «Философская проблема имеет форму: «Я в тупике» [2, с. 130]. И философия должна по возможности ясно показать это тупиковое состояние. Но «тупики» могут значительно различаться по своему характеру, и так же будут различаться методы философии. «Пожалуй, нет какого-то одного метода философии, а есть методы наподобие мметаразличных терапий» [2, с. 132]. Поэтому, говорит Витгенштейн, труд философа представляет собой «подбор припоминаний», но припоминаний, всегда осуществляемых «с особой целью». Припоминание с определенной целью является выражением прагматистской установки в трактовке задач философии и значительно отличается от стремления к абсолютной и полной ясности смысла предложений.
Обратимся теперь к рассматриваемым Витгенштейном проблемам знака, значения, понимания. Суждение о «значении как осмысленном употреблении» встречается уже в «Трактате»: «Что не удается выразить в знаке, показывает его употребление» [2, с. 13]. Принципиальное новшество в этом вопросе, привнесенное на страницы «Философских исследований», заключено в оценке «строгости значения». Для явлений, выступающих значением того или иного знака, Витгенштейн теперь находит термин «семейное родство» или «семейное сходство». Прежде Витгенштейн требовал «возможности простого знака» как возможности определенности смысла. Теперь он удовлетворяется «семейным сходством» и иронизирует над «идеалом точности».
Поскольку ранний Витгенштейн требовал определенности смысла простого знака, постольку он вполне обоснованно ставил предел пониманию предложения. Этот предел достигался в «полном анализе» предложения. Полностью проанализированное предложение представляет собой ясную картину факта или со-бытия. Это предложение будет истинным, если представляемая им картина соответствует действительности. Соответственно, понимание определяется Витгенштейном как представление условий истинности предложения. То есть, мы понимаем предложение тогда, когда представляем себе условия, при которых оно будет истинным.
В «Философских исследованиях» Витгенштейн не дает определений понимания, но зато подробно рассматривает ситуации, когда мы говорим; «Теперь я понял!» Главным теперь оказывается то, как понимание обнаруживает себя. А обнаруживается оно всегда в практическом действии и проявляется в конкретных обстоятельствах. Таким образом, и здесь заметно движение мысли Витгенштейна от априорности и однозначности к прагматичности и множественности. Эту позднюю позицию Витгенштейна Рорти называет «эпистемологическим бихевиоризмом». «Философские исследования» коррелировали со стремлениями таких философов, как Куайн, Селларс, Дэвидсон, разрушить господствующую в течение нескольких столетий декартовско-кантовскую модель философии, и отчасти даже инициировали эти стремления.
Разрушение названной философской парадигмы не означает, тем не менее, что любая попытка философствовать обречена на неудачу. В творчестве ведущих философов ХХ века – Витгенштейна, Хайдеггера (Рорти причисляет к ним еще Дьюи) – формируется новый образ философии, формируется новая модель философствования. Позднее творчество Хайдеггера, Витгенштейна, Дьюи «было скорее терапевтическим, нежели конструктивным, скорее наставительным, нежели систематическим; оно преследовало цель заставить читателя усомниться в его собственных мотивах философствования, а не предоставить ему новую философскую программу» [9, с. 5]. В работах названных мыслителей, в работах их сторонников и последователей совершался поворот, который Рорти называет движением от систематической философии к наставительной, движением от эпистемологии к герменевтике. Этот поворот З. Бауман называет сменой «законодательного» разума разумом «интерпретирующим».
Законодательный разум стремится открыть единые и вечные правила, законы мышления и подчинить им все сферы знания. Не случайно для этого им используются тропы, «заимствованные из риторики власти». Интерпретирующий же разум не претендует на абсолютные права. Он допускает множественность принципов организации разума, знания. «Множественность интерпретаций (существование конфликтующих знаний) перестает, таким образом, быть нежелательной, хотя и временной и в принципе исправимой, и становится конститутивным свойством знания. Иначе говоря, интерпретирующий разум рождается вместе с примирением человека с внутренне плюралистической природой мира и ее неизбежным следствием – амбивалентностью и непредзаданностью человеческого существования» [1, с. 55].
Очевидно, что интерпретирующий разум не есть отрицание связности и последовательности мышления. Он есть отрицание одного типа связности и последовательности в пользу другого типа. Таким образом, если быть более точным, интерпретирующий разум отрицает единственность какого-либо принципа, какого-либо типа связанности и последовательности в пользу множественности таких типов. Множественность типов знания и организации знания представляется характерной чертой постмодернистского мышления.
Итак, рассматриваемая в статье общая тенденция в изучении проблемы понимания фактически оказалась тождественной с базовой тенденцией всей западной философии ХХ века – а именно, со сменой модернистской парадигмы философствования на постмодернистскую. Более того, если считать важной проблему приоритетов, то необходимо отметить, что многие идеи, многие смыслы новой постмодернистской парадигмы первоначально формулировались в проблемном поле изучения понимания.
Список литературы:
- Бауман З. Философия и постмодернистская социология. // Вопросы философии. – 1993. – № 3.– С. 46–61.
- Витгенштейн Л. Философские работы. Часть 1. Пер. с нем. /Составл., вступ. Статья, примеч. М.С. Козловой. Перевод М.С. Козловой и Ю.А. Асеева. М.: Издательство «Гнозис». 1994. – 612 с.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем. / Общ. ред. и вступ. статья Б.Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 700 с.
- Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Эдмунда Гуссерля. // Вопросы философии. – 1992.– № 7. – С. 116–135.
- Дильтей В. Наброски к критике исторического разума. // Вопросы философии. – 1988. – № 4. – С. 135–152.
- Михайлов А.А. Современная философская герменевтика: Критический анализ. – Минск: изд-во «Университетское», 1984. – 191 с.
- Проблемы философской герменевтики. М.: АН СССР. Институт философии, 1990.
- Рорти Р. Витгенштейн, Хайдеггер и гипостазирование языка. / Философия Мартина Хайдеггера и современность. – М.: Наука, 1991. – С. 121–133.
- Рорти Р. Философия и зеркало природы. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1997. – 320 с.
- Субботин М.М. Теория и практика нелинейного письма. // Вопросы философии. – 1993. – № 3. – С. 36–45.
- Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – 447 с.
- Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, прочитанных в Касселе (1925). // Вопросы философии. – 1995. – № 11. – С. 119–145.
- Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы. // Контекст: Лит.-теоретич. исслед. /АН СССР, Ин-т мировой лит. – М.: Наука, 1991. – С. 215–255.
дипломов
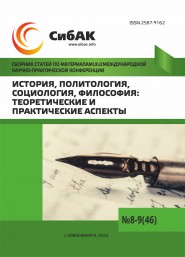

Оставить комментарий