Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 9(29)
Рубрика журнала: Юриспруденция
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
В соответствии со ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства является правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников гражданских и иных правоотношений; способствование укреплению законности и правопорядка, предупреждение правонарушений [1]. Арбитражный процессуальный кодекс (ст. 2) внося свою специфику в указанные установки, добавляет в число задач правосудия содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота [2].
Реализация указанных установок не оставляет сомнений в вопросе о приоритетах для суда: следование формальной законности или обеспечение реальной защиты прав и законных интересов участвующих в деле лиц. Вместе с тем теория злоупотребления правом и ее практическая реализация имеет безусловную значимость в выполнении сразу обеих задач, чему немало способствовало нормативное закрепление соответствующих положений и разъяснительная практика высших судов по вопросу их применения. Многочисленные примеры из судебной практики наглядно демонстрируют ситуации, при которых злоупотребление правом в той или иной форме стало возможным, а также последствия его выявления судом. Способ реагирования государства на подобные проявления обозначен в п. 2 ст. 10 ГК РФ как предоставленное суду правомочие отказать в защите права, мотивируя применение данного законоположения. В практическом плане это проявляется как в отказе суда в удовлетворении искового требования, так и в непринятии судом доводов участника судебного разбирательства (включая ответчика) о соответствии его поведения формальным предписаниям закона. Указанная мера сама по себе не является санкцией, поскольку злоупотребление правом является не правонарушением, не бесправным действием, а превышением пределов осуществления субъективного права. Иной подход к данному вопросу противоречил бы логической основе понятия «злоупотребление правом», делая такую категорию юридически бессмысленной.
Исходя из общего состояния российского правосудия, в связи с усилением диспозитивности и состязательности судопроизводства, есть основания полагать, что проблема недобросовестности сторон, квалификации их действий в качестве злоупотребления правом не обошла стороной и процессуальные отрасли права. Имея достаточно давнюю историю, данная проблема была известна еще римскому праву. Все возрастающее в настоящее время значение данной проблемы требует от законодателя совершенствования правовых средств, с помощью которых можно было бы эффективно противодействовать всевозможным процессуальным злоупотреблениям.
Как отмечает О.Н. Бармина, наиболее последовательный и теоретически обоснованный подход к определению и раскрытию понятия «злоупотребление правом» обнаруживается нами в цивилистике [3, 109]. И это действительно так, поскольку отрасль гражданского права, исходя из общеправового принципа социальной справедливости, регулирует правоотношения между самыми различными субъектами права, не отдавая преимущество одним и подавляя интересы других. Процессуальное же право, обеспечивая надлежащую судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав, основывается на тех же фундаментальных принципах, не допуская злоупотребление правом участниками того или иного судопроизводства. Необходимость обеспечения эффективности правового регулирования в самых различных сферах общественных отношений также требует установление единых критериев, при которых действия субъекта можно квалифицировать как злоупотребление правом.
В первую очередь следует исходить из того, что злоупотребление правом имеет место, когда управомоченный субъект обладает таким правом. В свою очередь, при совершении лицом неправомерного процессуального действия злоупотребления правом быть не может.
Требование действовать добросовестно при реализации своих процессуальных прав распространяется на всех лиц, участвующих в деле, но в первую очередь оно адресовано сторонам процесса. Указанный статус приобретается соответствующими лицами после принятия судом к своему производству заявления (искового заявления, административного иска, жалобы) и возбуждения производства по делу. Поскольку злоупотребление правами предусматривает совершение активных действий по реализации предоставленных правомочий, то потенциальный субъект процессуального злоупотребления должен обладать в полном объеме гражданской дееспособностью. В круг обязанных субъектов включаются также и представители сторон и третьих лиц, вступающих в процесс в силу закона либо на основании соответствующей доверенности (или адвокатского ордера). Процессуальное законодательство хотя очевидно и не относит представителей к участвующим в деле лицам (ст. 34 ГПК РФ; ст. 40 АПК РФ, ст. 37 КАС РФ [4]), вместе с тем представители правомочны совершать от имени представляемого и в его интересах все процессуальные действия (в силу п. 3 ст. 52, ст. 54 ГПК РФ; ст. 62 АПК РФ, ст. 56 КАС РФ, с отдельными оговорками), поэтому на них также должно распространяться действие запрета злоупотребления процессуальными правами.
Для осуществления управомоченным лицом юридически значимых действий помимо дееспособности требуется наличие соответствующего интереса в их осуществлении, который заключается в достижении определенного желаемого результата, будь то решение в свою пользу отдельных процессуальных вопросов или, в масштабах всего процесса – вынесение судом благоприятного судебного решения. В виду отсутствия соответствующей процессуальной нормы полагается уместным привести аналогию из норм материального права – п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 ГК РФ, в соответствии с чем граждане и юридические лица осуществляют свои права по своему усмотрению, своей волей и в своем интересе. Таким образом, при реализации процессуально-управомоченным субъектом своего интереса всегда идет речь об осознанных и, как правило, активных действиях (например, заявление требований, возражений, ходатайств, жалоб, представление и исследование доказательств и пр.). В свою очередь, квалификация процессуальных действий лица в качестве злоупотребления правом требует наличия вины последнего в форме умысла, означающей, что управомоченному лицу известно о характере его процессуальных действий и их последствиях, что у него имелась точная правовая оценка своего недобросовестного поведения.
Принцип состязательности как одна из основ судопроизводства не должен возводиться в абсолют, что поощряло бы различные процессуальные злоупотребления. Критерий добросовестности осуществления субъективных прав опирается на общеправовой принцип справедливости, выраженный прежде всего в процессуальном равноправии сторон. В этой связи недобросовестным будет считаться такое осуществление процессуального права, которое направлено на получение не причитающихся по закону преимуществ либо ставящее другого участника процесса в крайне неравное положение. Следовательно, права и интересы встречной стороны могут нарушаться как исключительно умышленным образом, так и иным объективно несправедливым осуществлением права, приводящим к дисбалансу в правовом положении сторон. Об этом можно говорить на основании конкретных обстоятельств: посредством оценки процессуального поведения субъекта и прогнозирования той выгоды, которую он может из этой ситуации извлечь при отсутствии каких-либо препятствий для реализации своих правомочий.
Кроме того, специфика процессуальных правоотношений заключается в том, что мерой осуществления процессуальных прав должна служить цель судебного процесса, заключающаяся в правильном и справедливом рассмотрении и разрешении дела, а также охрана баланса законных интересов участников судопроизводства от недобросовестного поведения одной из сторон. Таким образом, интересы недобросовестного лица, допускающего со своей стороны злоупотребление правом, противопоставляются одновременно и частным, и публичным началам осуществления правосудия.
В современном состязательном процессе суд не является безынициативным, созерцательным участником судопроизводства. Осуществляя руководство процессом и совершая целый ряд необходимых процессуальных действий, он не только содействует сторонам в осуществлении их правомочий, но и контролирует их соответствие требованиям закона, в том числе и принципу добросовестности. В случае, если кто-либо из сторон намеренно препятствует достижению задач правосудия и надлежащего судопроизводства, суд обязан определенным образом на это отреагировать. Имеющиеся в распоряжении суда властные правомочия должны гарантировать эффективное осуществление данной функции.
Список литературы:
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012.
- Бармина О.Н. О злоупотреблении правом // Вестник Вятского государственного университета № 4 (1), 2011. С. 109-112.
- Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, № 10, ст. 1391.
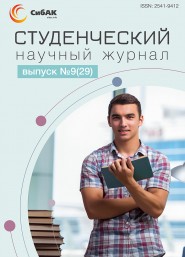

Оставить комментарий