Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 13(309)
Рубрика журнала: Психология
МОЗГ ШАХМАТИСТА: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
THE CHESS PLAYER'S BRAIN: FUNCTIONAL ASYMMETRY AS THE BASIS OF STRATEGIC THINKING
Damir Tazitdinov
master's student, Faculty of Philosophy and Psychology, Voronezh State University,
Russia, Voronezh
Oksana Malyutina
scientific supervisor, candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor, Voronezh State University,
Russia, Voronezh
АННОТАЦИЯ
В данной статье предпринята попытка комплексного теоретического анализа роли функциональной асимметрии полушарий головного мозга в формировании когнитивных стратегий шахматистов. Рассмотрены нейропсихологические механизмы зрительно-пространственного восприятия, экспертной памяти и принятия решений, а также их взаимосвязь с латеральной организацией мозга. На основе данных современных исследований предложены практические рекомендации для оптимизации тренировочного процесса с учетом индивидуальных нейробиологических особенностей игроков.
ABSTRACT
This article attempts a comprehensive theoretical analysis of the role of functional asymmetry of the cerebral hemispheres in shaping the cognitive strategies of chess players. Neuropsychological mechanisms of visual-spatial perception, expert memory, and decision-making are considered, as well as their relationship with the lateral organization of the brain. Based on the data of modern research, practical recommendations are proposed for optimizing the training process, taking into account the individual neurobiological characteristics of the players.
Ключевые слова: функциональная асимметрия, латеральная организация мозга, когнитивные стратегии, шахматы, нейропсихология.
Keywords: functional asymmetry, lateral organization of the brain, cognitive strategies, chess, neuropsychology.
Функциональная асимметрия полушарий головного мозга, долгое время рассматриваемая как ключевой элемент нейропсихологии, приобретает особое значение в контексте интеллектуальных видов деятельности, таких как шахматы. Левое полушарие, традиционно ассоциируемое с аналитическим мышлением, последовательной обработкой информации и вербальной памятью, играет критическую роль в расчете вариантов, логическом анализе и запоминании теоретических дебютов. Правое полушарие, напротив, доминирует в задачах, требующих целостного восприятия, пространственной ориентации и интуитивных решений, что особенно важно при оценке сложных позиций и распознавании стратегических паттернов. Однако важно подчеркнуть, что эта асимметрия не является детерминированной: оба полушария взаимодействуют динамически, формируя индивидуальный профиль латеральной организации (ПЛО), который определяет когнитивные предпочтения шахматиста.
Классификация ПЛО, предложенная Е.Д. Хомской [2], включает 27 вариантов, основанных на комбинациях трех видов асимметрии: мануальной (рука, нога), слухоречевой и зрительной. Для упрощения анализа эти профили группируются в пять основных типов: «чистые» правши, праворукие, амбидекстры, леворукие и «чистые» левши. Например, у «чистых» правшей доминирование правой руки, глаза и уха коррелирует с выраженной левополушарной активностью, что проявляется в предпочтении алгоритмических стратегий и тщательном расчете вариантов. Напротив, у «чистых» левшей преобладает правополушарная активность, что часто связано с нестандартными решениями и креативным подходом к игре. Однако, как показали исследования А. Р. Лурии [1], связь между ПЛО и когнитивными способностями носит статистический, а не абсолютный характер. Даже у игроков с выраженной левополушарной доминантностью правое полушарие активируется при решении творческих задач, таких как поиск неочевидных тактических комбинаций.
Зрительно-пространственное восприятие, являющееся основой шахматного мастерства, напрямую связано с правополушарной активностью. Эксперименты с использованием айтрекинга (eye tracking) (Charness et al., 2001) [5] продемонстрировали, что профессиональные шахматисты фокусируют взгляд на ключевых зонах доски, объединяя фигуры в смысловые блоки — так называемые «фрагменты» (chunks). Например, гроссмейстеры за 5–7 секунд запоминают до 90% значимых позиций, тогда как новички фиксируют лишь отдельные фигуры. Этот феномен, описанный в теории фрагментов (Chunking theory) Чейза и Саймона (1973) [6], объясняется способностью экспертов кодировать информацию в виде целостных паттернов, что сокращает когнитивную нагрузку. Более того, исследования с применением фМРТ (Bilalić et al., 2012) [3] выявили, что у мастеров активируются зоны теменной коры и гиппокампа, отвечающие за пространственную память и навигацию, что подтверждает роль правого полушария в обработке шахматных позиций.
Долговременная память шахматистов, хранящая тысячи дебютов, эндшпилей и тактических схем, также зависит от латерализации. Согласно теории шаблонов (Template Theory) Гобета и Саймона (1996) [9], эксперты используют иерархические структуры памяти, где базовые «фрагменты» объединяются в сложные «шаблоны», включающие не только визуальные конфигурации, но и стратегические идеи. Например, шаблон «Сицилианской защиты» может содержать слоты для типичных ходов, планов атаки и возможных ошибок. При этом левое полушарие отвечает за вербальное кодирование теоретических знаний («испанская партия», «ферзевый гамбит»), а правое — за визуальное распознавание паттернов. Интересно, что у шахматистов-профессионалов наблюдается повышенная плотность серого вещества в затылочно-теменной области, что коррелирует с развитием зрительно-пространственных навыков (Hänggi et al., 2014) [10].
Мышление в шахматах представляет собой сложный синтез аналитических и интуитивных процессов. В классическом исследовании де Гроота (1965) [8] гроссмейстеры тратили 70% времени на оценку позиции, активируя правополушарные сети, связанные с целостным восприятием, и лишь 30% — на расчет вариантов, где доминировало левое полушарие. Новички, напротив, демонстрировали обратную динамику, что приводило к «слепому перебору» ходов и ошибкам. В условиях дефицита времени, например, в «блице», даже опытные игроки переключаются на правополушарные стратегии, полагаясь на интуицию. Это подтверждается данными ЭЭГ: при решении задач в режиме «блиц» у мастеров регистрируется повышенная активность правой височно-теменной области, отвечающей за быстрое распознавание угроз (Campitelli et al., 2007) [4].
Особый интерес представляют игроки-амбидекстры, у которых отсутствует выраженная функциональная асимметрия. Исследования Корбаллиса (2014) [7] показали, что такие шахматисты демонстрируют повышенную гибкость мышления, эффективно сочетая аналитические расчеты с интуитивными решениями. Например, они могут быстро переключаться между глубоким анализом эндшпиля (левополушарная активность) и оценкой стратегических рисков в миттельшпиле (правополушарная активность). Однако баланс полушарий не всегда является преимуществом: в некоторых задачах, требующих специализации, амбидекстры могут уступать игрокам с выраженным ПЛО.
Перспективным направлением исследований остается нейропластичность – способность мозга адаптироваться под воздействием тренировок. Данные фМРТ свидетельствуют, что у гроссмейстеров снижена активация префронтальной коры при решении стандартных задач, что связано с автоматизацией когнитивных процессов (Bilalić et al., 2011) [3]. Это открытие легло в основу методик, направленных на развитие межполушарного взаимодействия. Например, комбинация тактических упражнений (левополушарная нагрузка) и импровизационных заданий (правополушарная нагрузка) способствует формированию универсальных стратегий. Такие тренировки не только улучшают результаты, но и повышают устойчивость к когнитивным перегрузкам в условиях турнирного стресса.
Список литературы:
- Лурия А.Р. Основы нейропсихологии / А.Р. Лурия. – М.: Академия, 2003. – 384 с.
- Хомская Е.Д. Нейропсихология индивидуальных различий / Е.Д. Хомская. – М.: Российское педагогическое агентство, 1997. – 282 с.
- Bilalić M., Langner R., Erb M., Grodd W. Mechanisms and neural basis of object and pattern recognition: A study with chess experts // Journal of Experimental Psychology: General. 2011. Т. 139, № 4. С. 728–742. DOI: 10.1037/a0020756.
- Campitelli G., Gobet F., Head K., Buckley M., Parker A. Brain localization of memory chunks in chessplayers // International Journal of Neuroscience. 2007. Т. 117, № 12. С. 1641–1659. DOI: 10.1080/00207450601041995.
- Charness N., Reingold E.M., Pomplun M., Stampe D.M. The perceptual aspect of skilled performance in chess: evidence from eye movements // Memory and Cognition. 2001. Т. 29, № 8. С. 1146–1152. DOI: 10.3758/bf03206384.
- Chase W.G., Simon H.A. Perception in chess // Cognitive Psychology. 1973. Т. 4, № 1. С. 55–81. DOI: 10.1016/0010-0285(73)90004-2.
- Corballis M.C. Left Brain, Right Brain: Perspectives from Cognitive Neuroscience. Нью-Йорк: W.H. Freeman, 2014. – 320 с.
- de Groot A.D. Thought and Choice in Chess. Гаага: Mouton, 1965. – 450 с.
- Gobet F., Simon H.A. Templates in Chess Memory: A Mechanism for Recalling Several Boards // Cognitive Psychology. 1996. Т. 31, № 1. С. 1–40. DOI: 10.1006/cogp.1996.0011.
- Hänggi J., Brütsch K., Siegel A.M., Jäncke L. The architecture of the chess player’s brain // Neuropsychologia. 2014. Т. 62. С. 152–162. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2014.07.019.
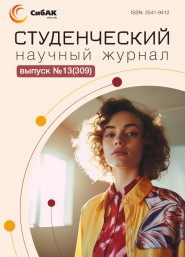

Оставить комментарий