Статья опубликована в рамках: XII Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 01 октября 2013 г.)
Наука: Философия
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
дипломов
ПРЕДЕЛЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРАВА В ЖИЗНЬ ИНДИВИДА: СОВРЕМЕННЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД
Гаршин Николай Александрович
студент 3 курса, кафедра истории философии, Воронежский Государственный Университет, г. Воронеж
Беляев Максим Александрович
научный руководитель, канд. философ. наук, преподаватель Воронежский Государственный Университет, г. Воронеж
На протяжении многих веков человека манит к себе свобода. Однако с развитием социальных институтов: государства, политических партий, правовой системы с одной стороны, и возрастающих темпов интеграции, глобализации и урбанизации с другой, человек практически лишился возможности быть вне государства, вне права: он не может уйти из полиса, как в античной Греции и жить вне каких-либо законов, ограничений, власти. На сегодняшний день практически вся территория мира принадлежит какому-либо государству: от карликовых, вроде Лихтенштейна и Люксембурга, до громадных России, США, Китая.
В сложившейся культурно-исторической ситуации проблема пределов вмешательства права в жизнь человека становится все более актуальной, именно поэтому я начал ее исследование.
Целью моей работы является критический анализ существующих или существовавший точек зрения на соотношение категорий свободы и необходимости подчинению человека законам, и как следствие, поиск ответа на вопрос сколь глубоко право может вторгаться в личное пространство человека.
Задачи данного исследования следующие: рассмотреть взаимодействие государства и индивида за различных этапах исторического развития; провести структурно-философский анализ этических концепций, в том числе касающихся темы разумен ли человек в своей предельной сущности или нет.
Итак, для того чтобы мыслить о пределах вмешательства института права в личную жизнь гражданина необходимо соотнести две полярные точки зрения на взаимодействие индивида и государства, выявить что ценнее: личные права и свободы гражданина или же общественный порядок, достигаемый отказом личности от части своих прав, в результате чего человек становится менее свободным. Очевидно, что ни полицейское государство с полным растворением человека в системе социальных институтов, ни анархические (зачастую утопичные) проекты, как две крайних точки, не могут являться решением поставленной проблемы. В полицейском государстве, то есть при императивном верховенстве государственной системы над индивидом, человек становится аморфным, ни к чему не стремящимся существом, ибо за него уже все решено, или же всеми силами начинает ненавидеть подобную тоталитарность, что видно на примере СССР и стран бывшего соцлагеря. Сегодня, как мы видим, нет уже ни СССР, а страны соцлагеря вошли в Евросоюз и используют либеральные и демократические политические режимы. Анархия же, как попытка создания общественного устройство без государства, утопична, так как обществу, так или иначе, нужны силовые структуры, для защиты общественного порядка и обороны границ; финансовая система, и иные социальные институты и учреждения. Люди, работающие там, получают определенные преференции, что вызывает желание занять эти места. Таким образом, мы получаем вновь институт государства, но с иным названием, что совершенно не существенно, и круг замыкается.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо искать некие компромиссные варианты, и мы попытаемся, проанализировав работы Милля и Ролза найти некий консенсус между интересами государства и личности.
Итак, Милль, как ярый сторонник либерализма, и предельной свободы личности, порой даже в ущерб порядку в обществе заявляет: «Общество изо всех сил старается заставить людей применяться к его взглядам. Прежние социумы считали себя вправе регулировать все детали частной жизни, утверждая, что в крошечной республике, которой постоянно угрожают вторжения и мятежи, даже в краткие промежутки отдыха нельзя позволить себе целительный эффект свободы. В современном мире огромных государств невозможно столь глубокое вмешательство закона в частную жизнь; но машина моральных репрессий казнит отклонения от господствующего мнения еще сильнее» [1, с. 12] здесь Милль, сравнивая прежние и современные общества, на мой взгляд, не совсем объективен в отношении античных государств, в которых весьма органично сплетались в единый политико-социальный организм такие современные общественные институты как государство и гражданское общество. Этот синтез, по моему мнению, и обеспечивал ту самую гармонию во взаимоотношениях человека и государства, которую на сегодняшний день пытаются восстановить политики и современные философы в своих проектах и трактатах. Но тот ушедший порядок был детерминирован культурно-историческими и социально-географическими условиями: относительно небольшие по современным меркам территории и население, однородный этнически-культурный состав полиса, наличие рабов, как дешевой рабочей силы и природных условий, позволяющий собирать несколько урожаев и развивать торговые отношения, непосредственное управление полисом граждан, а значит отношение к нему как к «своему», что делало участие в его делах почетным. Подобное государственное устройство с необходимостью делало правовую сторону жизни довольно ясной, еще не было громоздких нормативно-правовых актов. Законы, написанные такими же горожанами, как и все население, а не профессиональными юристами, которые излагают свои мысли в специфической, профессиональной форме. Это, в свою очередь, с одной стороны создавало синтез морали и права в единую систему, а также делало законы простыми для понимания населением.
В современных же обществах дихотомия гражданского общества и государства приводит к тому, что абсолютное большинство населения являются фактически отделены от реального управления делами не только государства в целом, но и даже на уровне местного самоуправления. Самовыражение в политической сфере ограничено, как правило, участием в выборах, которые проходят (в зависимости от конституции конкретной страны) раз в несколько лет, а сами власть имущие хотят все больше расширить свои права и полномочия, утвердится в качестве своеобразной вечной элиты, сократив свободу конкретного человека в частности, и гражданского общества, как социального института в целом: «В мире вообще растет стремление увеличить власть над личностью, поскольку все перемены стремятся усилить общество и ослабить личность. Это — не случайное зло, которое само собой исчезает, — наоборот, оно будет расти. Желание и правителей, и граждан навязать свои взгляды и пристрастия так энергично поддерживается свойствами человеческой натуры (у одних лучшими, у других худшими), что его вряд ли сдерживает что-либо, кроме недостатка власти» [1, с. 13]. Таким образом, личность чувствует, что государство есть нечто чуждое ему, и, как следствие пытается либо через протестные действия разной степени радикальности изменить существующий порядок, либо уйти в сферу неполитической самореализации — то есть гражданское общество, либо пытается минимизировать свои контакты со всяческими органами как государства, так и гражданского общества, что приводит к формированию так называемого патриархального типа политической культуры, что ведет к еще большей роли государства в жизни человека, которое постоянно стремится контролировать всю жизнь индивида: его высказывания, влечения, личную сторону жизни, и с течением времени меняется лишь внешняя составляющая, методы, способы принуждения, а суть остается прежней, желание заставить человека думать что самое лучшее это, как сказал бы Бродский «не выходить из комнаты». А ведь именно важность свободы самовыражения и личного пространства подчеркивает Милль, посвящая этому главу в эссе «О свободе»: «Современная общественная нетерпимость не казнит, не выкорчевывает идеи, но понуждает людей либо маскировать мысли, либо воздерживаться от их распространения. И такое положение кое-кого удовлетворяет. Ибо господствующее мнение защищено от внешних помех без неприятного процесса наказаний и арестов, без абсолютного запрета мыслить. Удобный вариант — обеспечить покой в интеллектуальной области, чтобы все шло, как заведено. Но ради этого покоя в жертву приносится отвага человеческого разума» [1, с. 14]. Такое «жертвоприношение», на мой взгляд, негативно скажется на развитии как общества, так и государства, как социального института, поскольку именно творческая составляющая человеческого бытия есть путь к развитию и прогрессу, причем это относится ко всем слоям общества, от элиты, до «социального дна», ибо место творчеству и новациям есть в любой сфере жизни человека. «Но свобода мысли нужна не только великим. Средним людям она еще нужнее, чтобы они могли достичь того уровня, на который способны. В атмосфере умственного рабства было много и много еще будет великих философов-одиночек, но никогда не было и не будет в этой атмосфере интеллектуально активных людей» [1, с. 15].
Вместе с тем, Милль отчетливо понимает, что абсолюция свободы, невозможна ввиду возможности причинения вреда третьим лицам: «Никто не требует, чтобы поступки были столь же свободны, как мысли. Наоборот, даже мысль теряет свою неприкосновенность, если при некоторых обстоятельствах может побудить к дурному поступку. Заявления, что из-за торговцев хлебом бедняки голодают или что собственность — это кража, могут быть напечатаны, но справедливо подлежат наказанию, если высказаны перед возбужденной толпой у дома торговца. Любой акт, причиняющий без должного основания вред другим, может, а иногда и должен сдерживаться словом и, если нужно, активным вмешательством» [1, с. 24]. Однако, выдвигая в качестве критерия ограничения свободы принцип отсутствия вреда, Милль, с моей точки зрения не учитывает косвенный вред тех или иных действий(например, разложение моральных устоев и неумышленная пропаганда тех или иных вредных для себя (а значит и потомства, то есть будущего общества) деяний) а также возможный вред в будущем. Явный тому пример — наркомания была бы не наказуема с позиций Милля, однако дети наркомана с большой долей вероятности будут или больны или опасны для общества, а сам он в будущем может убить или сжечь квартиру в неадекватном состоянии. Таким образом, рамки правоприменимости и вмешательства государства в жизнь человека становятся размытыми, ибо предсказать будущие последствия от тех, или иных деяний по критериям Милля не представляется, хватает и всегда хватало людей с вредными привычками, или суицидальными склонностями. За такого рода людьми совершенно необходим контроль со стороны государства, а поскольку вычленить их весьма затруднительно, до определенных стадий или деяний, государство вынужденно вести мониторинг всех граждан, поскольку нельзя с рождения сказать, что он будет наркоман или асоциальная личность итп. Таким образом, подход Милля, как, пожалуй, и большинство ему подобных, имеет ряд внутренних проблем, которые, на мой взгляд, решаются путем эклектики с иными учениями.
Джон Ролз, возможным. Кроме того, Милль говорит, что человек должен быть признан разумным, а это очень спорный вопрос, ибо разумный человек, не будет вредить себе, заведомо зная что, то или иное деяние принесет ему вред. Вместе с тем, всем известно, что в обществе отвечая на вопрос о соотношении личного пространства, и пространства регулируемого правовыми институтами, основывается на принципах справедливости. Собственно, на основании их он строит свою социальную концепцию в целом. Принципы справедливости он формирует, выдвигая определение справедливости: «С самого начала своего труда Джон Ролз обращает внимание на важность справедливости для социальных институтов, возводя ее фактически в ранг основного критерия эффективности и необходимости существования какого бы то ни было общественного или даже государственного института: «Справедливость — это первая добродетель общественных институтов, точно так же как истина — первая добродетель систем мысли. Теория, как бы она ни была элегантна и экономна, должна быть отвергнута или подвергнута ревизии, если она не истинна. Подобным же образом законы и институты, как бы они ни были эффективны и успешно устроены, должны быть реформированы или ликвидированы, если они несправедливы» [2, с. 19]. Ролз тем самым уходит от категорий полезности, вреда, и прочих субъективных категорий, которые зачастую выражают интерес конкретного класса или иной социальной группы. Возвращаясь к дефинициям и проблематике понимания свободы в различных концепциях, Ролз проводит операцию определения данной категории через 3 вещи: «Таким образом, я просто буду предполагать, что любую свободу всегда можно объяснить с помощью указания на три вещи: свободные действующие субъекты, ограничения, от которых они свободны, и то, что они свободны, делать или не делать» [2, с. 182] причем ценность разных форм свобод напрямую зависит от проявления других, поскольку основные свободы рассматриваются Ролзом с позиций холизма: «Ценность одной такой свободы обычно зависит от спецификации других свобод. Далее, я предполагаю, что при разумно благоприятных Обстоятельствах всегда есть способ определения этих свобод, так что наиважнейшие применения каждой из них могут быть гарантированы одновременно, а фундаментальные интересы — защищены. Или же это возможно при том условии, что два принципа и ассоциированные с ними приоритеты направлены на реализацию свобод и интересов. Наконец, при такой спецификации основных свобод должно быть ясно, действительно ли институты или законы ограничивают основные свободы, или же они просто регулируют их» [2, с. 183] таким образом, Ролз выводит законы, как регуляторы общественных отношений, из принципов справедливости, на которых также строится общество, благодаря чему добивается внутренней идентичности, и как следствие гармонии государства, права и свободы как минимум на уровне теории и это его явная заслуга, ибо при всей изменчивости и плюралистичности современного мира Ролз создал теорию, которая позволяет выстроить общества на принципах свободы, с одной стороны, и необходимым контролем со стороны государством за справедливостью, с другой. Из недостатков же данной теории можно выделить, пожалуй, слишком большое число допущений, на которых она строится, главное из которых — разумность человека, и теория игр, которая основана на допущении выбора не максимально возможной выгоды, а наименьшего риска, что в жизни далеко не всегда соответствует действительности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основная проблема пределов вмешательства права в жизнь человека — границы этого самого вмешательства. Как слишком большая доля автономии индивида от государства, так и чрезмерное вмешательство государства в личную жизнь, как мы выяснили, неблагоприятно. На мой взгляд, решением данной проблемы является передача неуголовных ситуаций в руки гражданского обществ, дабы люди строили линию поведений исходя из морали, при этом за государством должны остаться рычаги контроля, а также уголовное производство, поскольку именно уголовные дела являются наиболее опасными для общества. Такой подход, с одной стороны позволит избежать чрезмерного проникновения в личную жизнь посторонних лиц, а с другой не будет снижать безопасность жизни граждан.
Список литературы:
1.Милль Дж. О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. — 1993. — № 11. — С. 10—15; — № 12. — С. 21—26.
2.Ролз Дж Теория справедливости / Дж Ролз — 2е издание — ЛКИ 2009 — 533 с.
дипломов
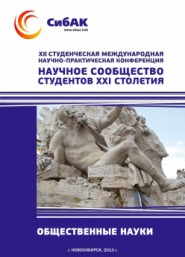

Оставить комментарий