Статья опубликована в рамках: IV Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 04 октября 2012 г.)
Наука: Филология
Секция: Литературоведение
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
отправлен участнику
«ГОРОДСКОЙ ТЕКСТ» В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ «ВОЕННОЙ» ПРОЗЫ О.Н. ЕРМАКОВА)
Шеметова Дарья Алексеевна
студент факультета горного дела и транспорта ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск
E-mail: dashemetova@mail.ru
Волкова Виктория Борисовна
научный руководитель, канд. филол. наук, доцент ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск
Произведения О.Н. Ермакова принято относить в литературоведении к «военной» прозе, поскольку их большая часть, написанная в период с конца 1980 — начала 2000-х гг., посвящена «афганской» теме, которая занимает особое место в литературном процессе последних десятилетий. Образ восточного, «чужого» города выступает в художественном дискурсе в антагонистической соотнесённости: русское конфликтует с афганским, культурное — с природным, рациональное — с инстинктивным.
«Городской текст» в прозе О.Н. Ермакова являет собой несущую конструкцию известной и объяснимой действительности. «Чужой» город в произведениях Ермакова — это форма существования образа реальности в тексте, поскольку связаны с категориями не только пространства, но и времени. Восточный город — это пространство военного прошлого или настоящего. «Городской текст» позволяет свободно и естественно укладывать большие временные промежутки в рамках одного художественного текста даже малой жанровой формы, например, повести «Возвращение в Кандагар» и «Последнего рассказа о войне».
Образ города у Ермакова многослоен, т. к. включает в себя мифологические, «бытовые», собственно художественные представления о пространстве, которые смешиваются в сознании героев. Характеристики города, в частности Кандагара, создают метафорический хронотоп романа «Знак Зверя»: «В Кандагар — город гранатов у песков великих пустынь… Кандагар самый стреляющий город Афганистана. Тишина или мирные звуки на его улочках — явление странное, настораживающее. Если тихо — значит, у кого-то застряли патроны в диске или кончились мины, а караван с новыми задержался в пути, или настало время намаза, — но сейчас отзвучат слова молитвы, сейчас добредет верблюжий караван до городских стен, сейчас будет вынут из ящика и вставлен в гнездо новый рожок и всунута болванка с оперением в жерло миномета, и привычные звуки заглушат тишину. Зато в Кандагаре растут огромные и сочные гранаты» [2, с. 117].
Образ Кандагара антропоморфный. Он ассоциируется с испуганным человеком, желающим спрятаться, «лечь, прижаться щекой к земле и затихнуть», но именно этот город, переходящий из рук в руки, характеризуется как самый воюющий. Не тишина, а звуки выстрелов и разрыва гранат являются привычными для города. Все эти характеристики соотнесены с понятием «чужбина». Именно чужое, афганское пространство имеет такие признаки, как пустота, отчуждённость, агрессивность, замкнутость. Для Глеба Свиридова, главного героя романа «Знак Зверя», азиатское пространство мифологическое, поскольку себя он ощущает попавшим в чужой иллюзорный для него мир, как бы лишённый реальности. Ощущение утраты реальности происходящего вызывается несоотнесённостью привычных представлений, ценностей, норм с нормами военной жизни на чужой земле, в чужих городах, где на улицах растут гранатовые деревья.
По справедливому замечанию В.Н. Топорова, «выход в новое пространство связан с чувством страха и/или неуверенности как некоей отрицательной эмоции. Человек оказывается абсолютно несоизмерим с пространством; оно в силу этого находится в состоянии вечной отчуждённости от познающего Я (само познание пространства в этом случае ставится под сомнение), и человека охватывает страх» [3, с. 228].
Отчуждение от афганского пространства переживают почти все герои Ермакова, поскольку это важный этап обретения себя в чужом пространстве, самосохранения, поиска точки опоры. Экзотический Кандагар не пробуждает эстетических чувств у Глеба в первые месяцы его пребывания в Афганистане. Приобщение к прекрасному происходит гораздо позднее, когда завершается процесс «вживания» в чужое пространство. До этого момента даже самые живописные, но чужие панорамы рождают ощущение опасности, вызывая в герое отчуждение и страх.
В повести «Возвращение в Кандагар», Ермаков, создавая образ «чужого» города, объективирует интертекстуальную параллель, заявленную в «Знаке Зверя»: «О Кандагаре, конечно, все знали. Кандагар был жарким местечком во всех смыслах: юг, гигантские сочные гранаты, город на границе великих пустынь: Пустыни Отчаяния, Пустыни Смерти, Регистана — Страны Песков. Этот город снова хотели сделать столицей, как в древности, духи этих пустынь. Кандагар не контролировался кабульскими властями полностью, в городе было двоевластие» [1, с. 102]. Образ гранатовых деревьев, закольцевавший городской пейзаж в романе, и образ трёх пустынь, в повести топонимически обозначенных и даже расшифрованных, акцентируют экзотику восточного города.
Типичны для Ермакова в характеристике Кандагара слова, номинирующие в тексте экзотическое пространство, воссоздающие местный, национальный колорит. В этой группе слов выделяются топонимы (Пустыня Отчаяния, Пустыня Смерти, Регистан — Страна Песков). «Топонимы создают образ конретного географического пространства, чувственно воспринимаемого героем. Используя топонимы, автор осуществляет географическую конкретизацию описываемого события, приближает его к действительности» [5, с. 253]. Даже вне текста топонимы содержат информацию об определенном пространстве, поэтому у Ермакова топонимы иногда выполняют функцию заглавия, например, «Возвращение в Кандагар».
Топонимы, обозначающие конкретное географическое пространство, в прозе Ермакова «входят в состав ярких, наглядных метафорических выражений, отражающих неординарное восприятие реального пространства» [5, с. 256]. Ассоциации необычны, сугубо индивидуальны, автор выделяет основной для описываемой местности образ, признак и переосмысливает его, эстетически трансформирует, как, например, в характеристике Кандагара.
Кандагар для Костелянца, главного героя повести «Возвращение в Кандагар», — эстетический символ; он, недоучившийся филолог, поэт, ещё до того, как побывал в Кандагаре, написал стихотворение «в античном духе: о кромешных полях, где ночные тюльпаны срывает розоперстая Эос», от которого Никитина и Кисселя «продрало по спинам морозцем» [1, с. 105]. Стихотворение имело заголовок «Рассвет в Александрии-Арахозии», «так в древности назывался Кандагар, основанный македонцами по пути в Индию». И именно в Кандагаре, где Костелянец побывал впервые, он пережил момент истины: красота, а вместе с нею и гармония, на фоне всеобщего хаоса и войны предстали иллюзией, рождённой воображением человека. Костелянец после Кандагара вообще утратил веру в возможность жить по законам гармонии и красоты, поэтому русский деревенский уютный быт друга Никитина Костелянец воспринимает как нечто иллюзорное, обречённое на разрушение в любой момент. Утрата эстетического не вне, а внутри героя приводит к осознанию разлада с самим собой, поэтому в разговоре с Никитиным Костелянец свои впечатления от операции в Кандагаре связывает с рассуждениями о красоте: «После Кандагара перестал заворачивать к вам. Ты не все еще знаешь. Меня бы вытошнило, извини. Стоит вспомнить разговоры на ночной дороге к полку. Мучительные рассуждения о... о... к-красоте! – выпалил Костелянец и залаял-засмеялся. — Она в нас или вне нас?» [1, с. 99].
Разрушение эстетического идеала действительности, осознание эфемерности прекрасного подорвало Костелянца, и это произошло в Кандагаре. Важно не только то, что он осознал в себе убийцу, способного разрушать, но и то, что само по себе прекрасное как бы и не существует в реальности, поскольку реальность — это бесконечное противостояние, война, где нет места гармонии, а с нею и красоте.
Восприятие Кандагара разными героями Ермакова имеет некую общность: красота восточного города и его окрестностей обретает физиологические черты, зачастую ассоциируясь с женским началом. Нацеленные в небо купола мечетей на основе формального сходства персептивно связываются Глебом с женской грудью. В последующем рассуждении героя сходство становится очевиднее, когда возникает образ «голубых, нежных, налитых молитвами куполов» по аналогии с женской грудью, полной молока. А в описаниях окрестностей другого восточного города — Джелалабада — физиологическое восприятие явно доминирует: «В Джелалабад. Джелалабадская долина между горами Нуристана (Страны света) и хребтом Спин-гар — пышный пах на голом теле, щедро плодоносящая вагина, заросшая финиковыми пальмами, тысячелетними чинарами, древовидными тамарисками, кустами ядовитого олеандра, кипарисами, банановыми пальмами, тополями, апельсиновыми, лимоновыми, абрикосовыми, персиковыми садами. Субтропическая долина с разноцветными попугаями, магнолиями и розами заканчивается пятидесяти трех километровым Хайберским проходом» [2, с. 118].
Ермаков акцентирует яркую, экзотическую, выразительную, женскую красоту городов Афганистана, но эта нарочитая эстетика агрессивна и воинственна, лейтмотивом постулирующаяся: «Здесь воюют все дороги», «Здесь воюют все подземные реки». Поэтические названия (Нуристан (Страна света), Панджшер (Долина Пяти Львов)) на фоне почти статистически выверенных данных о засадах, о силах мятежников, об их лидерах, о тактиках нападения воспринимаются как нечто естественное для Востока, где красота и война неотделимы, детерминированы многовековым укладом. Но эта естественность для человека другой культурной среды воспринимается как нечто противоестественное.
Выразительна перцепция и в описании Ташкента, тоже восточного города, хотя и не «чужого», но странного и загадочного: в повести «Возвращение в Кандагар» Костелянцу и десантнику Серёге, едущим в автобусе, Ташкент кажется мусульманским раем, «наполненным женскими голосами, смехом школьниц, шуршанием юбок»: «Город был женским. Все здесь было подчинено женщине. Раньше это как-то не замечалось. Женщины всех мастей царственно-непринужденно выцокивали по тротуарам, доступные и в то же время запредельные» [1, с. 14]. Ташкент с его «зелеными рощами», «беспечными толпами, фонтанами» кажется нереальным, неким мистическим пространством, где правит женщина и царит мир.
Восточные города наделяется автором физиологическими характеристиками, весьма натуралистичными: Ургунское ущелье — это пищевод, Джелалабадская долина — «плодоносящая вагина», Панджшер и Хайберский проход — трубы, Ташкент — женский город.
Изначально отчуждённая красота восточных городов и его окрестностей постепенно проникает в героев Ермакова, и чем дольше они находятся в Афганистане, тем ближе становится к ним Восток. Мифологизация «городского текста» происходит за счёт сближения «своего» и «чужого». Каждый из героев Ермакова имплицитно ощущает близость чужой земли как общей праматери, но эксплицитное выражение это ощущение получает в «Последнем рассказе о войне». Восток в сознании Мещерякова, героя рассказа, связывается с историческими корнями человеческого рода. Мещерякову кажется, что здесь всё начиналось, что он сам в какой-то другой жизни здесь жил, строил города и монастыри. Привязанность к чужому пространству с его экзотическими городами подсознательная, но Мещеряков не может избавиться от чувства «дежа вю». Бродя по старинному буддийскому монастырю, герой обнаруживает фреску с изображением «божественной женщины», в ногах которой дивный бутон цветка. Во всём этом Мещеряков видит сигналы сближения с чужим пространством, которые становятся основанием «необъяснимого чувства», возникшего у него. Эстетическое чувство обостряется по мере того, как приходит понимание красоты «чужого» города, восточной культуры.
В «Возвращении в Кандагар», характеризуя город в одном из разговоров с родителями сослуживца, десантник Серёга подчёркивает именно его красоту: «По Кандагару едешь — стоят еще виллы. Все в зелени. Красиво».
Азия разными героями со временем начинает восприниматься как прародина всего человечества. Такого рода психологический хронотоп генерируется самосознанием персонажа [4]. В повести «Возвращение в Кандагар» Ивану Костелянцу, отслужившему в Афганистане и приехавшему в Москву, невольно приходит в голову мысль о том, что все народы вышли из Азии, в том числе и русский: «Из Азии изошли народы, в том числе и предки этих озабоченных москвичей — этого красноносого носильщика с железной тележкой, этого сонного синеглазого постового.
Ну да, это сразу чувствуется на Красной площади, — по улице Горького Костелянец дошел до нее и с изумлением обнаружил поразительную схожесть... с чем? Да нет, он видел фотографии Мавзолея и храма, но сейчас эти краски живо ему напомнили пестроту Чар-сук — площади в Кандагаре, где сходятся четыре базара, а Мавзолей — несомненно мазар. Но Кремль, красные стены, башни с гранями и звездами выражали уже нечто иное — местный дух. Здесь проходил какой-то шов» [1, с. 53—54].
Эта неожиданная хронотопическая параллель оправдана, сопоставление русского народа с азиатским объяснено самой логикой повествования, где на одной линии оказывается история жизни «белого азиата» Костелянца, выросшего в Душанбе, его посвящение в воина в Афганистане, открытое противостояние русским, в том числе и Костелянцу, азиатов Каюмовых, пославших на смерть новобранца Фиксу, погромы в Душанбе после возвращения героя с войны. В сознании героя стыкуются два городских пространства — московского и кандагарского, но это не приводит к противоречию, наоборот, устраняет его, ведь прошлое живёт в герое как настоящее.
Для творчества Ермакова свойственна усложненная структура образа восточного города. Это, во-первых, тесная связь с восприятием героя, его внутренним миром; во-вторых, наглядное движение времени, характеризующееся перемещением из настоящего в прошлое. В тот момент, когда героям Ермакова удаётся вжиться в пространство «чужого» города, ощутить его как часть своего, происходит совмещение временных пластов. Образ восточного города трактуется уже не как агрессивное, отчуждающее от себя пространство, а как прародина всего человечества, частью которого во временном отношении выступает и герой.
Список литературы:
- Ермаков О.Н. Возвращение в Кандагар: Повесть и рассказы. М.: Эксмо, 2007. — 352 с.
- Ермаков О.Н. Знак Зверя. М.: Эксмо, 2006. — 384 с.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. — С. 227—284.
- Тороп П.Х. Хронотоп // Словарь терминологии тартуско-московской семиотической школы / Сост. Я. Левченко. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://slovar.lib.ru/dictionary/hronotop.html (дата обращения 17.09.2012 г.)
- Шанталина Ю.А. Речевая объективация концепта «пространство» в поэзии Н.С. Гумилёва // Вестник СамГУ. — 2006. — № 10/2 (50). — С. 252—257.
отправлен участнику
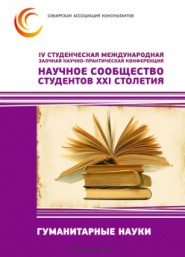

Оставить комментарий